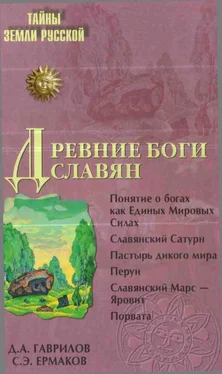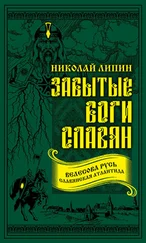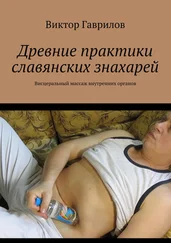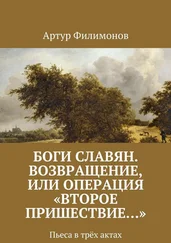Если учесть особенности представления о роде и культа предков у восточных славян, становится понятно и прозрачно дальнейшее рассуждение В. Комаровича:
«При всем том культу Рода в древнерусском быту приписывался до сих пор сугубо частный, семейный только характер. Ограничиваясь по большей части догадками о возможной древности соответствующих фольклорных данных (радуничных окличек, причетей и т. п.) да перечнем соответствующих церковных обличений, исследователи об общественном значении этого культа даже не ставили и вопроса. Указание Соловьева на летопись до сих пор ничье внимание не привлекло. А между тем оно стоит того, чтобы на нем остановиться.
Дело в том, что отмеченный Соловьевым признак: полуязыческая молитва к неканонизованному церковью предку — указанным местом летописи не ограничивается: вслед за приведенным эпизодом под 1169 г. помощь „дедней и отней молитвы“ тому же Михалке оговорена также под 1171 г.; затем „отца и деда его молитва и прадеда его“ под 1176 г. помогает Михалке же в борьбе с Ростиславичами; под 1193 г. „деда и отца молитвою святою“ избавляется от пожара княжь двор Всеволода; под 1217 г. „молитва отца и дедня“ водворяет мир между Всеволодовичами Константином и Юрием; под 1223 г. „молитвою отца своего Константина“ (умершего в 1218 г.) спасается от гибели на Калке Василько Константинович; наконец, под 1294 г. „молитвою деднею и отнею“ спасается от татар Михаил Тверской. Ни один из этих посмертных доброхотов своего потомства: ни Владимир Мономах, ни отец его Всеволод, ни Всеволод Большое Гнездо, ни сыновья его Константин и Ярослав — опять, как и Юрий Долгорукий, никогда канонизованы не были.
И замечательно, что этот красноречивый след языческого культа Рода тянется на пространстве, ограниченном от конца XII до конца XIII в. через древнейший лишь текст Лаврентьевской летописи; в параллельном тексте более поздних сводов (Радзивилловского и Московского академического) имеем ряд не менее красноречивых поправок: в одном случае „отца его молитвою“ исправлено на „святого отца“, т. е. родителя заменил духовник (под 1169 г.); в другом случае (под 1193 г.) все упоминание родичей вообще выпущено. Дала, как видно, знать себя рука духовной цензуры. Проникновение в летопись полуязыческого культа княжеских родоначальников совпадает как раз с тем периодом, когда так обострены были разногласия относительно правовых основ княжеской власти…
Внецерковную молитву к умершему родичу, в последний раз засвидетельствованную летописью под 1294 г., нельзя не сопоставить с другими пережитками языческой старины в той же среде удельных князей XII–XIII вв.: во-первых, с обычаем давать новорожденному князю два имени и, во-вторых, с отличным от крещения обрядом постригов.
Двойные имена наших князей различаются летописью как „княжие“ („русские“, „мирские“) и крестильные, например: „родися у него сын и нарекоша и в святем крещеньи дедне имя Михайло, а княже Ростислав, дедне же имя“ (Ипатьевская лет. под 1173 г.), это о сыне Рюрика Смоленского. Под 1177 г. аналогичное известие читается о сыне Игоря Святославича Новгород-Северского: „родился у Игоря сын, и нарекоша имя ему в крешении Андреян, а княжее Святослав“ (Ипатьевская), т. е. „княжее“ опять дедово; под 1192 г. „княжее имя“ нарекает своему сыну Всеволод Суздальский и опять „деда своего имя“ (Воладимир). Присущий, как видно, всем ветвям русского княжеского рода одинаково, явно не соблюдавшийся, однако, уже Андреем, обычай этот мог корениться опять только в языческих представлениях о нерасторжимом единстве живых и умерших родичей: недаром „княжее“ имя так часто оказывается одновременно „дедним“; недаром, с другой стороны, и исчезают эти имена одновременно с внецерковной молитвой предку, в поколении сыновей Александра Невского, в конце XIII столетия.
Было ли связано наречение „княжего“ имени с постригами — неизвестно. Но та подробность, что „постриги“ (упоминаемые в Лаврентьевской и Ипатьевской под 1192 г., только в Лаврентьевской под 1194, 1212 и 1302 гг.) сопровождались посажением трехгодовалого князя из рук отца „на конь“, говорит во всяком случае о внецерковном характере и этой обрядности. А в таком случае посвятительный характер самых постригов — острижения первых волос — не мог не предполагать нецерковность» (Комарович, 1960, с. 89).
Белорусские авторы, следуя вроде бы за Рыбаковым в признании идеи существования Рода как верховного божества, при этом свидетельствуют: «У беларускай міфалогіі сувящь с усёмагутным Родам прасочваецца толькі ў адным аспекце — „удзьмухванні жыцця ў людзей“» (Міфалогія… 2003, с. 185).
Читать дальше