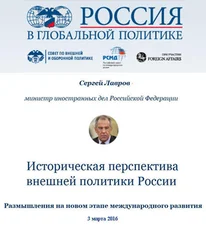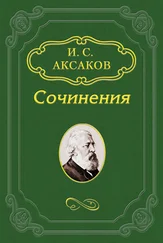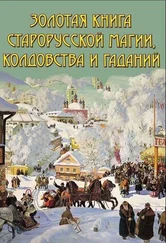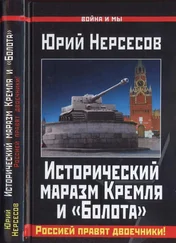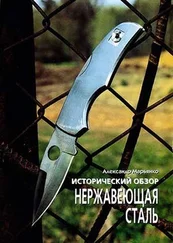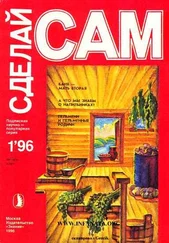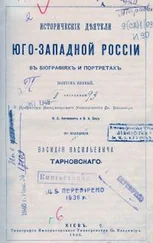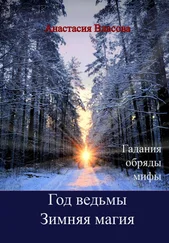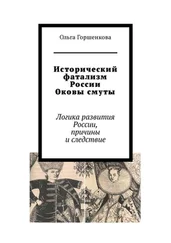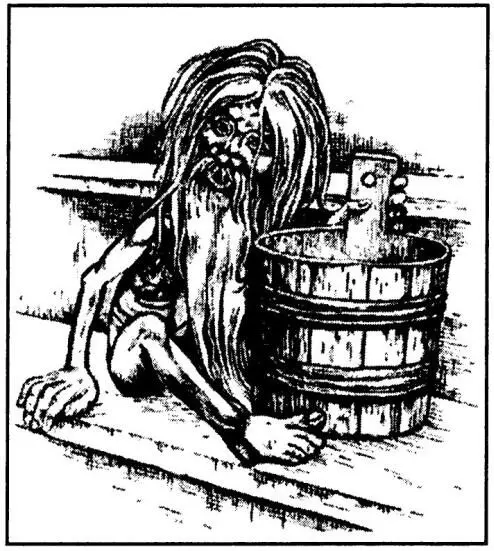
Банник. Рис. И. Билибина
Решение включить в книгу хотя бы краткий очерк популярной магии, магической медицины и колдовства представляло значительную трудность. На Западе изучение колдовства бурно развивалось в последние десятилетия, увенчавшись значительными результатами, но мало затрагивало русские материалы и практически не оказывало воздействия на российскую науку [19]. Приходилось отыскивать сведения по популярной магии в работах, устаревших с точки зрения научного подхода, или вообще в публикациях ненаучного характера, в большинстве труднодоступных. Кроме того, в {20} течение почти всего советского периода была широко распространена официальная точка зрения на магию и религию или как на составную часть старого порядка, не стоящую обсуждения, или как на суеверия и пережитки этого порядка, подлежащие искоренению. Это не только не способствовало, но и деформировало процесс исследования в области верований и связанной с ними деятельности, причем новые исследования на эту тему были редкостью. Нельзя сказать, что игнорировался сам предмет, однако большинство российских ученых до последнего времени не имели возможности отделять задачи научного анализа от целей политической пропаганды и общественного перевоспитания [20].
Выходом для некоторых советских исследователей стала фольклористика. Иногда она превращалась, по существу, в нечто вроде искреннего славянофильского неоязычества, импонировавшего властям как желательная оппозиция официальной религии. Таким образом, одновременно поддерживался интерес к данной теме, которая апеллировала к народной поэзии исконной языческой мифологии, почвенной мудрости и патриотизму русского крестьянина. Самодовольный национализм подобного подхода имеет мало общего с марксизмом и гораздо больше — с народничеством XIX столетия, предреволюционным пропагандистским образом Святой Руси и эзотерическими течениями начала XX века. Усиление культурной изоляции советского научного сообщества при Сталине и его последствия привели к тому, что немногие специалисты знали, что происходило за рубежом, а знавшие не решались ссылаться на зарубежные исследования, разве что в негативном плане. Большинство наиболее ценных трудов советского периода на тему магии проходило по разделам археологии, литературоведения, семиотики, изучения народной медицины или фольклора. Я отнюдь не собираюсь вдаваться в историю теоретического изучения данной темы в России. Дело в том, что последовательно развивавшиеся (и часто взаимопроникавшие) разработки научных школ (начиная с безграничного мифологизма и кончая исторической, сравнительно-исторической, семиотической, этнолингвистической, со свойственной им динамикой развития в рамках располагавшей незаурядным научным потенциалом российской академической и интеллектуальной традиции) сами по себе могут являться предметом исследования. При этом они оказывали лишь случайное воздействие на научную мысль других стран [21]. {21}
В области гаданий проблема состоит не столько в разработке концепции, сколько в классификации, хотя и здесь возникают свои трудности. Легко заметить, что гадание скорее представляет собой попытку предсказать исход дела или принять правильное решение, нежели достичь определенного результата. Тем не менее способы получения предсказания могут мало отличаться от магии, применяемой для достижения результата или предотвращения исполнения нежелательного предсказания. С другой стороны, часто трудно отличить гадания от игр, популярных развлечений и сезонных праздников. То же касается предсказаний погоды и урожая: что это — результат гаданий или многолетних наблюдений? Что такое физиогномика — форма гадания или ранняя форма научного знания? Здесь я искал выход в привлечении материала, порой неупорядоченного. Предлагаемые в последние годы классификации гаданий в основном концептуальны [22]; я не возражаю против такого подхода и не собираюсь вдаваться в крайность, составляя нелепые раблезианские перечни способов гадания. Непосредственное обращение к источникам и удобство композиции кажутся мне предпочтительным способом представления материала.
Последняя, и возможно, наибольшая, трудность заключается в употреблении мною термина «Россия». В настоящее время даже территория распространения великорусского языка не представляет собой единого культурного целого, тем более трудно четко определить, что такое Россия в исторической перспективе. Я определил исследуемый культурный ареал как земли, заселенные в период Киевской Руси православными восточными славянами и в дальнейшем их потомками, что приблизительно соответствует территории, населенной великороссами (включая русское население Сибири), украинцами и белорусами, уделяя преимущественное внимание периодам Московской Руси и Российской империи.
Читать дальше
![Вильям Райан Баня в полночь [Исторический обзор магии и гаданий в России] обложка книги](/books/26106/vilyam-rajan-banya-v-polnoch-istoricheskij-obzor-ma-cover.webp)
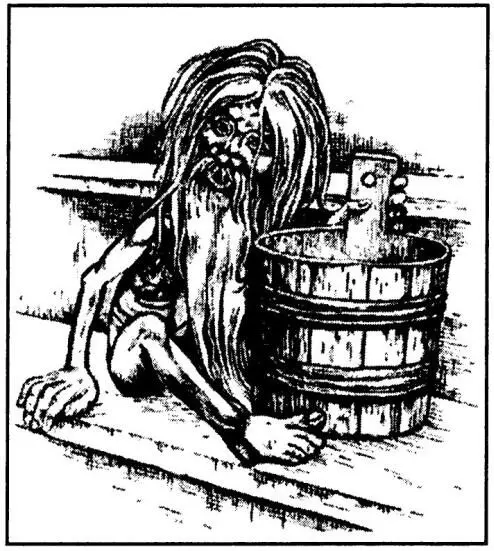
![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/26247/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo-thumb.webp)