Поскольку храмово-гражданский коллектив Команы имел некоторое количество полисной земли, не исключено, что храм Ма мог скупать земельные участки граждан, а затем сдавать их в аренду прежним владельцам, как это было принято в других храмовых объединениях Малой Азии [33] Laumonier A. Les baux d'Olymos // REA. 1940. Vol. XLII. P. 200–210; Robert L. Le sanctuaire de Sinuri près de Mylasa. P., 1945. Pt. 1: les inscriptions grecques.
. Другим источником роста храмовых владений могла быть практика передачи храму земли под залог, после чего она становилась храмовым владением. К сожалению, для Команы это не засвидетельствовано источниками.
Из всего сказанного вытекает, что Комана Понтийская ощущала на себе довольно жесткий контроль царей Понта как верховных собственников земли в государстве. Эта версия противоречит утверждениям ряда исследователей, будто данное храмовое объединение имело свободный статус, а права его жречества не ущемлялись царской канцелярией. После падения Митридатидов контроль со стороны царей был ликвидирован, но усилилась власть верховного жреца, который фактически превратился в единственного правителя Команы; все это существенно урезало привилегии храмово-гражданской общины.
Источники сообщают о трех основных группах жителей Команы: населении города (οι ένοικουντες), храмовых служителях (οι ίεροδούλοι), одержимых божеством (ol θεοφόρητοι)· Каждая из групп распадалась на несколько категорий. Т. Завадский установил, что население территории храмового центра делилось на две части: иеродулов, которые группировались вокруг святилища и являлись культовыми служителями; крестьян, которые жили на землях священного полиса. Они не подчинялись жрецу в той степени, в какой это свойственно иеродулам храма [34] Zawadzki T. Quelques remarques… P. 91–92.
. Однако исследователь не учел, что последние, в свою очередь, подразделяются на две категории: первая -живущие в городе и обслуживающие религиозные церемонии; вторая -обитатели хоры, священной земли храма. И те и другие подчиняются жрецу, считая его ό κύριος. В ряде храмовых общин Малой Азии, в частности в храме Аполлона Тарсения, жрец был главой живших на земле храма катойков, с которых была снята десятина на скот. М. Фей-ель отмечал, что вокруг святилища объединялись не только поселенцы-катойки, но и другие категории сельскохозяйственного населения, т. е. "люди, которые живут вокруг святилищ и которые объединяются, когда совершается периодическое празднество" [35] Feyel M. La fete d'Apollon Tarsenos // REA. 1940. Vol. XLIII. P. 137–141.
. Кто бы ни были эти люди - катойки или периэки (паройки), они являлись жителями священной земли, которые платили десятину царю. Освобождая их от уплаты десятины, царь способствовал повышению платежеспособности этих людей храму, что давало средства для отправления религиозных церемоний [36] Wilhelm A. Griechische Königsbriefe // Klio. Leipzig. 1943. Bh. XLVIII. S. 35–40.
. Иеродулы понтийских и каппадокийских святилищ также уплачивали налог (ό πρόσοδος) жрецам за право обрабатывать землю храмов ( Strabo. X II.2.5 - о ежегодном доходе жреца храма Зевса в Венасах, равном 15 талантам) [37] П. Дебор (Op. cit. P. 83–84) полагает, что взаимоотношения храма и иеродулов строились на взаимной коммерческой основе, при том, что за обработку храмовой земли им выплачивалась какая–то сумма денег. Это предположение не подтверждается источниками.
. Если сопоставить ателию храму Аполлона Тарсения с сообщением Страбона, что в Комане на "выходы" богини стекались люди из городов и области, то можно сделать вывод, что иеродулы храма Ма, жившие на γη ιερά, также принимали участие в культовых действиях. А значит, подобно паройкам храма Аполлона, и они уплачивали налог, а их социальное положение было близко последним [38] Не случайно, что Страбон (XII.2.5) характеризует иеродулов Зевса как ίεροδούλων κατοικίας.
.
Поскольку и те и другие жили общинами (αί κώμαι) и платили налоги в храм, а также, весьма вероятно, царю, то вполне допустимо, что у них наблюдалось имущественное и социальное расслоение; какая-то часть иеродулов порывала с земледелием и переселялась в город для обслуживания храма и культа. Если сравнить данные Страбона о количестве храмовых служителей в Комане (6 тыс.) и Венасах (3 тыс.) с тем, что в храме Афродиты в Коринфе было всего лишь чуть более тысячи иеродулов (Strabo. VIII.6.20), то можно сделать вывод, что для нужд храма и культа достаточно было и тысячи иеродулов. В таком случае остальные могли жить на хоре и съезжаться в город только на празднества богини.
Читать дальше
![Сергей Сапрыкин Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье] обложка книги](/books/26100/sergej-saprykin-pontijskoe-carstvo-gosudarstvo-gr-cover.webp)
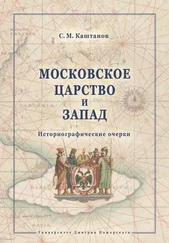


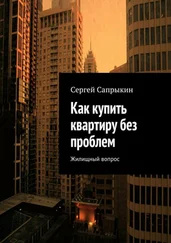
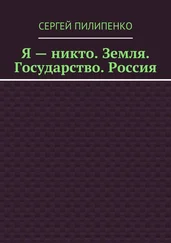

![Сергей Сорочан - Ромейское царство [Часть 2]](/books/402489/sergej-sorochan-romejskoe-carstvo-chast-2-thumb.webp)
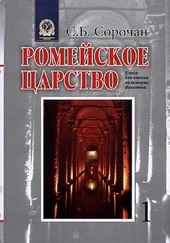
![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/433093/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk-thumb.webp)

