Кабира представляла собой городской центр, возникший при храме богини Луны, подобно тому, как Комана и Зела выросли вблизи храмов Великого женского божества. При Фарнаке I, как явствует из названия культа, обозначающего учредителя, в храмовом комплексе лунной богини стал почитаться другой лунный бог - Мен, получивший второе составное имя Фарнака, правившего в Понте царя [50] Не исключено, что храмы Селены и Мена—Фарнака представляли собой один комплекс. Текст Страбона дает возможность и для такой интерпретации (εστι δε και τοῦτο της Σελήνης το ίερον). О культе Мена—Фарнака, обозначающем основателя, см.: Magie D. Op. cit. Vol. II. P. 1073; Lesky A. Men // RH. 1931. Bd. XV. S. 695; Opperman H. Pharnaku // RE. 1938. Bd. XIX, 2. Hbd. 38. S. 1853–1855; Keil J., von Premerstein A. Bericht Uber eine zweite Reise in Lydien // Denkschr. d. Akad. in Wien, philosoph. — histor. Kl., 1911. Bd. LIV. Abh. 2. N 104.
. С тех пор храм для Митридатидов стал священным. Как и другие великие понтийские святыни, храмово-гражданский коллектив Кабиры владел священной территорией и жившими на ней иеродулами, по положению приравненными команским и зелитским. При установлении культа Фарнак I, вероятно, пожаловал храмовой общине часть земли из состава царских владений, как это сделал позднее в Коммагене Антиох I. Жившие на ней крестьяне стали иеродулами храма, а доход взимался непосредственно в казну храма. Знаменательно, что расположенная рядом с Кабирой Америя поименована Страбоном как ή κωμόπολις и, несомненно, имела отношение к территории храма Мена-Фарнака.
Обычно цари приписывали землю храмам вместе с деревнями [51] Dörrie H. Der Königskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer Inschriften Funde. Göttingen, 1964.
. В некоторых из них находились небольшие местные святилища, объединявшие ряд сельских общин (ком) в союзы деревень (κοινά). Одной из таких ком и была Америя, которая после присоединения к храмовому комплексу в Кабире превратилась в центр ремесла и торговли (ή πόλις). В связи с тем, что Америя не утратила черты сельского ιερόν, но уже выступала как административный центр на ή ίερά χώρα святилища Мена-Фарнака, то она и названа Страбоном как ή κωμόπολις (местечко, деревня - город). Отсюда ясно, что это был не самостоятельный храмовый центр, а кома на приписанной Фарнаком к храму Мена земле. Поскольку сельское святилище в Америи объединяло население ряда деревень, то при включении в состав храмовой общины в Кабире их жители превратились в иеродулов. Примеры таких священных деревень известны в Малой Азии ( Strabo . XIV. 1 A4) [52] Robert L. et J. La Carie… P. 285–302, nr 166.
.
Помимо Америи в состав храмового объединения Мена в Кабире могли входить и другие сельские общины, о которых Страбон ничего не упоминает. Известно, что царские пожалования храмам делались из политических соображений, причем нередко для возвеличивания царя и установления его культа. Это целиком соответствовало внутренней политике, которую проводил в Понте Фарнак I (см. часть I, гл. 3). В этом видится причина пожалования земли храму Мена, в результате чего образовался синкретический культ Мена-Фарнака.
При Митридате VI Кабира получила ограниченный полисный статус (см. выше). Центр области Фанарои, где находился этот город, представляло царское укрепление Фанория ( Plin . HN. VI.3.8), столица округа, а недалеко располагалось другое царское укрепление Кайнон Хорион. С их помощью Митридат VI осуществлял контроль за Кабирой, ограничивая ее автономию и политик), а также за жречеством храмового комплекса Селены и Мена-Фарнака, сдерживая рост его могущества. Очевидно, соотношение царской, полисной и храмовой земельной собственности в Кабире было близким Понтийской Комане.
В 65 г. до н. э. Помпей сделал Кабиру административным центром Фанарои, переименовав в Диосполь, а затем уже Пифодорида объявила ее столицей, назвав Себастой. У нас нет данных о святилище Мена-Фарнака в указанное время, поэтому можно только предполагать, что статус святилища и религиозные обряды остались такими же, какими они были в эпоху Митридатидов.
Таким образом, мы убедились, что цари Понтийского государства пытались вмешиваться в дела великих святилищ Понтийской Каппадокии, ибо считались верховными собственниками земли в государстве. Несмотря на то что их политика по отношению к Комане, Зеле и Кабире предусматривала земельные дотации, предоставление ателии, асилии и различных полисных привилегий членам гражданской общины, они постоянно держали в руках мощные экономические и политические рычаги, чтобы удерживать в повиновении жречество и членов храмово-гражданских общин. Поэтому утверждения о привилегированном и независимом положении храмовых объединений Восточной Анатолии, по крайней мере на землях Понтийского царства, не соответствуют истинному положению дел.
Читать дальше
![Сергей Сапрыкин Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье] обложка книги](/books/26100/sergej-saprykin-pontijskoe-carstvo-gosudarstvo-gr-cover.webp)
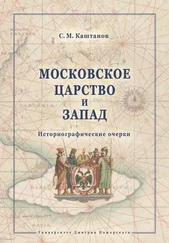


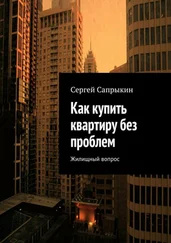
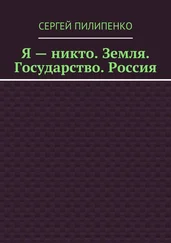

![Сергей Сорочан - Ромейское царство [Часть 2]](/books/402489/sergej-sorochan-romejskoe-carstvo-chast-2-thumb.webp)
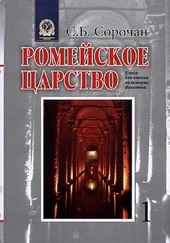
![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/433093/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk-thumb.webp)

