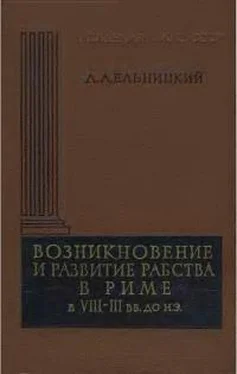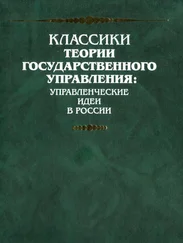К тому же археологические данные показывают, что рабство появилось в Италии еще задолго до возникновения первых государств, а в эпоху их образования было уже широко представлено в достаточно определенных формах, запечатлевшихся в погребальном ритуале культуры Вилланова. Судя по ритуальным (насильственным) захоронениям в Болонье, Эсте, в древнейших центрах Этрурии и в Риме, патриархальное рабство имело значительное распространение в Италии VII—VI вв. до н.э. и должно быть, очевидно, сопоставлено с первоначальной клиентелой, бытовым отражением чего и являются эти ритуальные погребения.
Дальнейшая эволюция рабства состояла в постепенном увеличении числа покупных, оторванных от своей родной земли рабов, которых уже не убивали, чтобы положить с собой в могилу, но и не считали принадлежностью рода. Эти наиболее откровенные виды рабства характерны для классической формы античного рабовладения и широко процветали в Риме с III—II вв. до н.э. с тем, чтобы в эпоху поздней империи вновь уступить место более мягким и половинчатым формам, когда вчерашний раб обращался в закрепощенного мелкого собственника–колона, каким он mutatis mutandis и был еще позавчера.
Следует, однако, думать, что и в эпоху самого широкого распространения плантационного хозяйства и эргастериального рабства, даже в Италии, где оно особенно процветало, сидевшие на земле клиенты–колоны (или целые общины мелких земледельцев), обязанные своему владельцу частью урожая и различными повинностями, никогда не исчезали вовсе [30] Такие сидевшие на чужой земле колоны должны были существовать уже и в раннереспубликанское (если не в царское) время, поскольку в законах XII таблиц (VIII, 11) имелась статья преследовавшая подобного колона за порубку деревьев (у Павла Диакона, 47, 7, 1; ср. 12, 2, 28, 6. Fontes iuris Romani anteiustiniani, p. 1, Flor., 1941, стр. 57: colonus, cumquo propter succisas arbores agebantur, si iuraverit se non succidisse, sive e lege XII tab. de arboribus succisis convenietur, defendi poterit).
.
Это, как кажется, осознавали многие исследователи, даже те, кто не причислял себя к последователям марксизма, но находился под бóльшим или меньшим его влиянием. [22] Это все понимал М. И. Ростовцев, приближающийся в своем истолковании социальных отношений древнего мира к точке зрения Э. Мейера [31] M. Rоstоwzеw. The Social and Economic History of the Hellenistic World, 11. Oxford, 1941, стр. 1143 сл.
. В особенности же отчетливо понимал это Макс Вебер, указавший в свое время и на неопределенность различий между, рабским и крепостным состоянием в древности, а также и на крепостнический характер использования в Риме труда «свободных» земледельцев–плебеев. Отчетливость весьма глубоких наблюдений М. Вебера вуалируется лишь употребляемой им терминологией, поскольку он подчас отождествляет античные отношения с феодальными, не находя между ними принципиальной разницы [32] M. Weber. Agrarverhältnisse im Altertum. Gesammelte Aufsätze zur Social- und Wirtschaftsgeschichte. Tübingen, 1924, стр. 190 сл.
.
Понимание определяющего значения рабовладения в древности распространяется все более широко среди зарубежных исследователей. Не говоря уже о марксистах, таких, например, как Ф. Де Мартино («История древнеримской конституции») [33] F. De Martinо. Storia délia costituzione romana, I. Napoli, 1958, стр. 45 сл.
или Э. Серени («Сельская община в древней Италии») [34] Ε. Sereni. Communita rurali nell'Italia antica. Roma, 1955, стр. 203 сл. Нельзя обойти молчанием также и исследования Бронислава Билинского о труде (в первую очередь труде ремесленников) в эпоху царей и ранней республики (В. Bilinski. Problem pracy w starozytnym Rzymie, I. Czasy krolewskie i wezesna republica (VIII—IV/III w. przed n. е. — «Archeologia», Rocznik Panstwowego museuma Archeologicznego, III. Warszawa — Wroclaw, 1952, стр. 45-111). В названной работе развитие римского сельскохозяйственного и ремесленного труда рассматривается на широком историческом фоне. К сожалению, автор переоценивает, с нашей точки зрения, возможности и значение свободного труда в рассматриваемую им эпоху и вообще уделяет недостаточное внимание социальной стороне изучаемых им явлений.
, прекрасно сознающих значение рабовладения и рабства при возникновении государства в Италии, даже такие историки, как Г. Митчел [35] H. Miсhell. The Economics of Ancient Greece. Cambridge, 1940, стр. 9-14.
или С. Лауфер [36] S. Lauffer. Die Sklaverei der griechisch–römischen. Welt. – «Rappors de XI Congrès International de acience historique», II. Stockholm, 1960, стр. 71 сл.
, также в известной степени приближаются к ним в понимании хозяйственного и социального значения рабства в древности. Примечательно появление работ, [23] привлекающих внимание к различного рода промежуточным и неполноправным состояниям [37] D. Lоtzе. Μεταξὺ έλευθέρων και δούλων.
, рассматриваемым при исследовании роли рабства в древности и степени его распространения в античных государствах.
Читать дальше