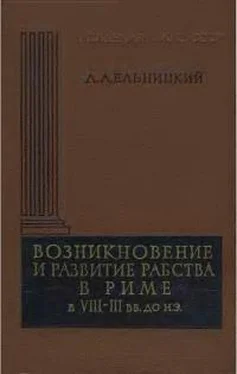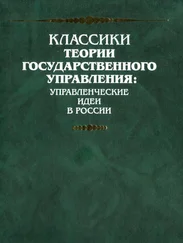О социальном аспекте категории римских колонистов, пользовавшихся латинским правом, некоторое представление дает, может быть, сообщаемый Ливием (XL. III, 3, 1 сл.) и относящийся к 70–м годам II в. до н.э. факт. В сенат поступило из Испании ходатайство от более чем 4 тыс. детей римских легионеров (от местных женщин) об отведении им земель для жительства (с определением их политического и хозяйственного статуса). Было постановлено, чтобы они, а также и их возможные вольноотпущенники поселились в Картее (Carteia ad Oceanum на Алжесирасском заливе, к западу от Гибралтара) в качестве колонистов с латинским правом. Прежнее местное население Картеи включалось в состав колонии, с новыми (т.е., видимо, значительно уменьшенными) наделами земли подобно тому, как это практиковалось и в Италии в более древнее время, судя по примеру анциатов. Колония Картея, добавляет Ливий, именовалась в просторечии «колонией либертинов» (Latinam earn coloniam esse — в рукописи fuisse–libertinorumque appelari) (Liv., XLIII, 3, 4).
Здесь же следует упомянуть о двух категориях зависимого от древнейшего Рима сельскохозяйственого населения, именовавшихся forcti (или forctes) и sanates. Было известно, что они жили «выше и ниже» Рима (qui supra infraique Romaim habitaverunt. — Festus, p. 348). Forctis из того же Феста (p. 84 и 102) разъясняется как синоним для bonus. Наименование же sanates он выводит из того факта, что–де названные так люди (некогда, видимо, завоеванные римлянами) «отложились было от Рима, но вскоре снова вернулись в дружественное состояние, как бы придя в разум». В древности высказывались и разные другие истолкования этих имен, показывающие, что значение их было непонятно самим римлянам. М. Фойгт (M. Fоigt. Das ius naturale, IV. Leipzig, 1875, стр. 266 сл.) сопоставлял форктов и санатов с клиентами, полагая, что они то же самое, что и dedititii. Близкое к этому толкование было предложено и Моммзеном (Th. Mommsen. История Рима, I. М., 1936, стр. 97). Следует полагать, что наименования forcti и sanates возникли как эпитеты для определения их носителей — людей, отличных в каком–то положительном значении от прочих завоеванных и подчиненных соседей в то время, когда не были выработаны более общие и определенные политические и юридические термины. Прежде всего эти наименования должны быть вероятно, сопоставлены с германскими летами и с теми наименованиями полусвободных потомков завоеванных и порабощенных соседей, какие знает африканская и североамериканская историческая этнография [ср. H. Н. Залесский. К вопросу о происхождении плебса (форкты и санаты законов XII таблиц). — «Уч. зап. Ленинградского государственного педагогического ин–та им. Герцена», т. 68. Л., 1948, стр. 87 сл.]
Dion. Hal., II, 9 сл.
Dion. Hal., II, 9 сл.
Colum. De r. r., I, Praef., 17.
Сatо. De agric., 136. О зависимом положении древнейших римских земледельцев, не обозначенных в источниках в качестве рабов или клиентов, которых Плиний (NH, VIII, 70) называет опять–таки колонами, свидетельствует его ссылка на некие древние (apud priores) юридические нормы, по которым пеня за убийство быка равнялась плате за убийство колона (tamquam colono suo interempto).
К. J. Neumann. Kaiserrede über die Grundherrschaft der Römischen Republik. Strassburg, 1900, стр. 4 сл.
См., например, М. Weber. Agrarverhältnisse im Altertum, стр. 197,
В знаменитом письме колонов из Saltus Burunitanus в провинции Африке императору Коммоду (см. E. М. Штаерман. Избранные латинские надписи. — ВДИ, 1955, № 3, стр. 227 сл., № 116; ср. Th. Mоmmsеn. Dekret des Kommodus für den Salitus Burunitanus. — «Hermes» XV, 1880, стр. 385) упоминаются среди жалобщиков также и некие римские граждане, подвергшиеся вместе с прочим зависимым населением сальтуса телесному наказанию за неповиновение администрации императорского имения. Надо полагать, что в древнереспубликанские времена получавшие гражданство перегрины и либертины были еще менее гарантированы от подобного обращения, поскольку их фактическое положение определялось отнюдь не их юридическим, а экономическим и социальным состоянием. Моммзен замечает, что в автоматизме, с которым вольноотпущенники получали гражданские права, начиная, быть может, уже с царской эпохи (при Сервии Туллии) и во всяком случае со времен ранней республики, заключается презрение патрициата к общинной гражданственности, поскольку новоявленный гражданин продолжал оставаться клиентом своего прежнего владельца со всеми вытекающими из этих отношений последствиями, вплоть до возвращения в рабское состояние (reductio in servitutem). (Th. Mоmmsen. Das Römische Staatsrecht, III, 1, стр. 131, прим. 1: ср. он же. Römische Forschungen, I, стр. 364). Отмечается также, что в юридических и эпиграфических источниках либертины нередко сохраняют обозначение servi (или pro servo. Th. Mоmmsen. Dais Römische Staatsrecht, III, 1, стр. 59, прим. 1; стр. 421).
Читать дальше