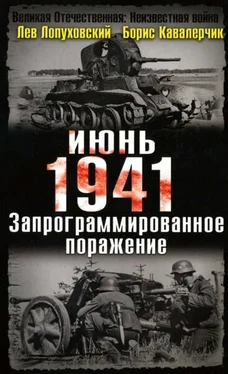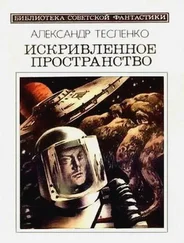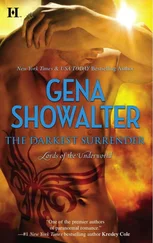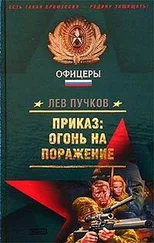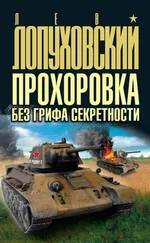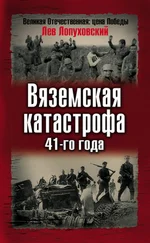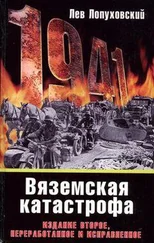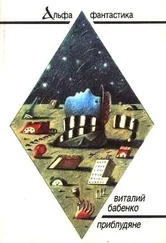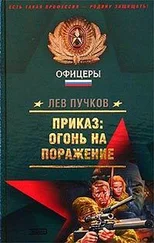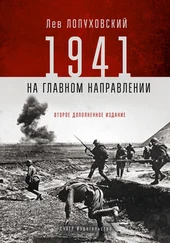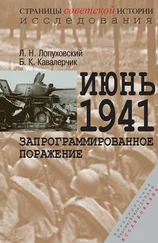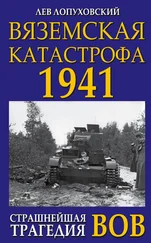Примерно в это же самое время, 17 июня 1937 г., военный атташе США в Москве подполковник Ф.Р. Фэймонвилл направил в Вашингтон свой доклад с аналогичными заключениями:
«Поскольку снижение уровня боеготовности Красной Армии отрицательно сказывается на безопасности Советского Союза, страна жестоко пострадала в результате событий 11 июня [30] 11 июня 1937 г. Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР были приговорены к расстрелу маршал М.Н. Тухачевский, командармы 1-го ранга И.П. Уборевич и И.Э. Якир, комкоры А.И. Корк, В.М. Примаков, В.К. Путна, Б.М. Фельдман и Р.П. Эйдеман.
…
В связи с тем, что сильная Красная Армия в последние три года была несомненным фактором мира в Европе, ее недавнее ослабление в результате казни маршала Тухачевского и его соратников существенно подрывает силы, выступающие за мир, и создает куда более вероятные перспективы для японской и фашистской агрессии» [154].
Весной 1938 г. после аншлюса Австрии французское руководство стояло перед важнейшим выбором: следует ли ему попытаться силой остановить растущие на глазах претензии Гитлера к Чехословакии или продолжать проводить политику его умиротворения? Одним из решающих факторов, повлиявших на это решение, был доклад французского посла в СССР Р. Кулондра своему правительству, в котором тот высказал мнение, что «СССР готовится, главным образом, к оборонительной войне». Кроме того, как он отметил, «грозной неизвестной величиной является реальная ценность командования». Поэтому Кулондр сделал однозначный вывод: в случае войны с Германией Франции не стоило рассчитывать на существенную военную помощь со стороны России, которая «подверглась такому кровопусканию, что не может не находиться в ослабленном состоянии» [155].
В то же самое время английский военный атташе подполковник Файэрбрэйс в докладе своему Министерству иностранных дел полагал, что Красная Армия по-прежнему сильна в обороне. Однако, по его мнению:
«‹…› с военной тонки зрения имеются значительные сомнения относительно того, способен ли Советский Союз выполнить свои обязательства по договору с Чехословакией и Францией, ведя наступательную войну» [156].
В конце июня 1938 г. новый военный атташе Франции в СССР полковник О.-А. Паласе, который постоянно выступал за тесное сотрудничество своей страны с Советским Союзом и был склонен оправдывать многие происходившие в нем тогда события, тем не менее доносил в Париж:
«1) Красная Армия, вероятно, более не располагает командирами высокого ранга, которые бы участвовали в мировой войне иначе как в качестве солдат или унтер-офицеров.
2) Разработанная Тухачевским и его окружением военная доктрина, которую наставления и инструкции объявили вредительской и отменили, более не существует.
3) Уровень военной и общей культуры кадров, который и ранее был весьма низок, особенно упал вследствие того, что высшие командные посты были переданы офицерам, быстро выдвинутым на командование корпусом или армией, разом перепрыгнувшим несколько ступеней и выбранными либо из молодежи, чья подготовка оставляла желать лучшего и чьи интеллектуальные качества исключали критичную или неконформистскую позицию, либо из среды военных, не представляющих ценности, оказавшихся на виду в гражданскую войну и впоследствии отодвинутых, что позволило им избежать всякого контакта с «врагами народа». В нынешних условиях выдвижение в Красной Армии представляет своего рода диплом о некомпетентности.
4) Чистка, распространяющаяся по лестнице сверху вниз, глубоко дезорганизует воинские части и скверно влияет на их обучение и даже на условия их существования. В этом отношении весьма показательны все более многочисленные нарекания на плохое обслуживание военной техники и учреждение Ворошиловым «комиссий по экономическому сотрудничеству». Примечательно, что деятельность этих комиссий, превращающая воинские части в сельскохозяйственные предприятия и затрудняющая обучение, тремя годами ранее была признана вредной и отменена.
5) Непрекращающиеся перемещения офицеров,‹…› против чего советское командование с 1930 г. решительно выступало, вследствие чистки стали как никогда многочисленными‹…›
6) Учреждение института военных комиссаров [31] Институт военных комиссаров был восстановлен в РККА приказом НКО СССР № 165 от 20 августа 1937 г., изданным в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР «Об утверждении Положения о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии» от 15 августа того же года. Комиссары, как и в годы Гражданской войны, были уравнены в правах с командирами. С этого времени все приказы подписывались не только командиром, но и комиссаром, без чьей подписи они считались недействительными [158].
, усилия, прилагаемые для того, чтобы поставить во главе воинских частей офицеров, служивших в отдаленных друг от друга местностях и незнакомых между собой, и все более непосредственное наблюдение со стороны органов государственной безопасности ставит кадры Красной Армии в положение невозможности полезной работы и лишает их всякой инициативы и увлеченности делом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу