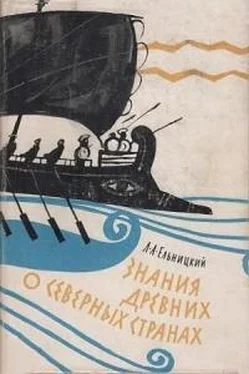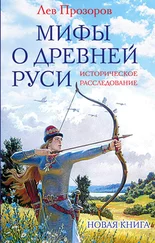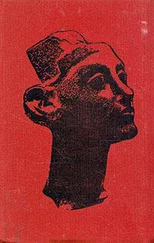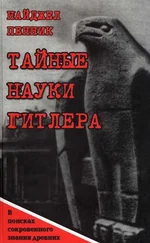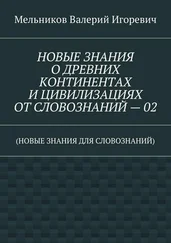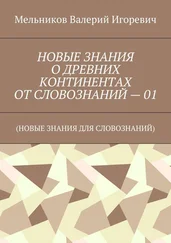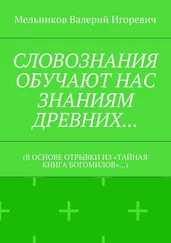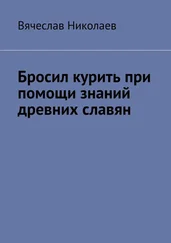Первоначальные плавания в черноморском бассейне вызывали лишь достаточно смутные представления о размерах водных пространств, их берегах и прилегающих к берегам странах. Даже Геродоту, писавшему в эпоху весьма развитых отношений Аттики и греческих городов Малой Азии с Северным Причерноморьем, далеко не все еще представляется ясным и хотя бы приблизительно точным. Устье р. Истра, по его мнению, расположено напротив Синопы (II, 34), а Мертида кажется ему лишь немногим менее Понта (IV, 86). Для впадавших в Черное море северных рек у греков сначала наиболее употребительным было наименование Фасис, которое мы вправе угадывать и в имени Гипанис, прилагавшемся к Бугу и к Кубани, и в первоначальном наименовании p. Дона, породившем впоследствии недоразумение с границей между Европой и Азией у Гекатея Милетского, [3] Schol. Apoll. Rhоd., IV, 259.
отразившееся у Эсхила [4] Aesch., Prom. liber., fr. 192.
и отмеченное Геродотом (IV, 45). Истоки большинства этих северных рек оставались неизвестными грекам на протяжении всей древности и первоначально угадывались смутно в Рипейских горах.
Такого же рода, если не еще более смутные, представления о западноевропейском севере были получены греками в результате плаваний и колонизации халкидян, фокейцев и милетян в западносредиземноморских водах. Подобно тому, как в культурных слоях восточносицилийских поселений встречаются предметы, возникшие не без влияния культуры позднеминойского Крита, так и в легендах, легших в основу описаний западных странствий Одиссея, могут быть угаданы догреческие штрихи. Таково, по-видимому, прежде всего имя острова Тринакрии (Тринакии), которое греческая мифологическая традиция связала с именем сикульского царя Трииака [5] Schol. Apoll. Rhоd., IV, 965.
или с аналогичным наименованием сикульского города, [6] Diod., XII, 29, 2.
упорно отождествляемого" по крайней мере начиная с Фукидида (VI, 2,2) с о. Сицилией.
Одиссея знает также и самое имя сикулов (XX, 383;-XXIV, 211) и локализует их при этом как будто не на острове, о котором в этой связи в поэме нет речи, а на материке в Италии. Плавания греков вдоль берегов Южной Франции и в глубину Адриатического моря (следует думать, что первоначально Адриатическим называлась именно северная часть этого моря, тогда как его южная часть удерживала за собой наименование Ионического моря, или залива) [7] Aesch., Prom. vinct., 840.
также способствовали обогащению знаний о Европейском Севере.
Имя Адриатики происходит от греко-этрусского эмпория Адрии при устье р. По, древность которого неоднократно оспаривалась в науке, но где в недавнее сравнительно время были сделаны находки греческой керамики VI столетия до н. э. Именно эти плавания греков в Адриатику и торговля их с представителями североиталийских племен, общавшихся в свою очередь с жителями заальпийских областей, породили в них те смутные представления о р. Эридане, устье которой они отождествляли с устьем р. По, а верховья предполагали где-то далеко на севере - в тех местах, где родится янтарь. Эти же представления возникали в умах фокейских греков, основавших на рубеже VII-VI столетий у устья р. Роны город Массалию, ставший в свою очередь центром значительной колонизации по северным побережьям Иберийского и Тирренского морей.
Верховья р. Родана (Роны) мыслились древним ионийцам также где-то далеко на севере, имя ее они без особенного труда готовы были отождествить с именем мифического Эридана, что и привело в конце концов к созданию мифико-географической концепции, в соответствии с которой русла рек По, Роны и Рейна представлялись как бы рукавами мифического Эридана, устья же его предполагались в Адриатическом и Тирренском морях, а также на Северном океане. Концепция эта, как мы видели выше, была широко использована в эллинистической Аргонавтике.
Плавания фокейцев в западном направлении к Геракловым столпам совершались при живейшей конкуренции финикиян, основавших одновременно с греками свои колонии в западной части Сицилии, на южных берегах Сардинии, на Балеарских островах и на юге Испании, за Гибралтарским проливом (Тартесс), отождествленный впоследствии с греческим Гадесом. Финикийцев, как и греков, привлекал к иберийским берегам металл (серебро, а также олово, необходимое для изготовления бронзы). Финикийцы, прочно утвердившиеся на берегах Северной Африки, вероятно уже на рубеже VIII-VII столетий, долго держали в своих руках почти всю западносредиземноморскую торговлю и форсировали изучение и освоение атлантического побережья Африки и Иберии уже в VII-VI столетиях до н. э. Карфагенские мореплаватели, подобно их тирским сородичам, обошедшим по морю по поручению фараона Нехо вокруг Африки, совершали плавания на юг, до берегов Гвинейского залива и на север - как далеко, трудно сказать при современном состоянии вопроса.
Читать дальше