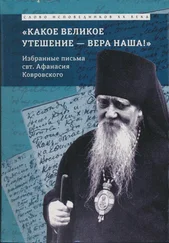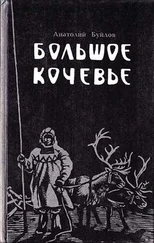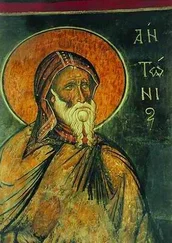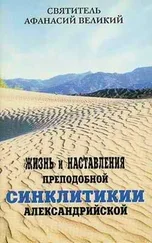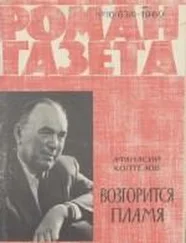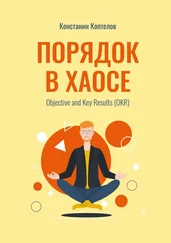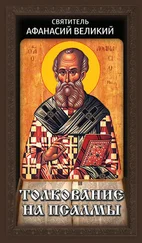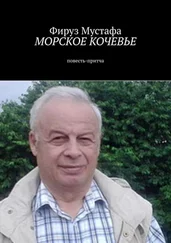Но вот что интересно: за какую бы тему Афанасий Коптелов ни брался в своих произведениях, вольно или невольно, прямо или косвенно возникал у него образ родного Алтая. И это не случайно. В одной из автобиографий писатель признается: "На добрую половину моей творческой жизни Алтай дал мне темы и события, вдохновение в работе... Он дал краски со своей богатейшей палитры и аромат своих лесов, полей, лугов. Он познакомил меня со своими лучшими сынами и дочерьми..." Используя название его же романа "Точка опора", можно сказать, что и для самого Афанасия Коптелова Алтай стал подлинной точкой опоры.
Большое значение для него имели тесные личные связи с талантливыми алтайскими художниками Григорием Гуркиным и Николаем Чевалковым, разносторонне одаренным писателем Павлом Кучияком, от которых он многое узнал и почерпнул. Все это очень пригодилось Афанасию Коптелову, когда он приступил к работе над самым, пожалуй, социально и художественно значимым своим произведением - романом "Великое кочевье", посвященном судьбе ойротов - горных алтайцев.
Очень символично его название. Оно четко определяет и подчеркивает главную социальную задачу произведения - показать смену векового общинно-родового уклада жизни на новые формы бытия. Роман и рассказывает о переходе от традиционного единоличного кочевья к оседлой жизни, к колхозу. Писателю с большой художественной силой и убедительностью удалось создать коллективный образ алтайского народа, кочующего в завтрашний день. "Теперь Алтай бедный человек последний раз кочует. Он единоличный аил в колхоз кочует, избы строит, - говорит один из героев романа и добавляет: - Великое кочевье".
Но иногда Афанасий Коптелов уходил за пределы родного Алтая - писал о шахтерах Кузбасса и строителях железных дорог, об изыскателях, прокладывающих новые трассы. Однажды он познакомился с редчайшим человеческим документом - дневником инженера-изыскателя А.М. Кошурникова. Дневник потряс писателя, и он, опубликовав его в "Сибирских огнях", взялся за повесть "Навстречу жизни", в основу которой положил факты из последней экспедиции трех отважных изыскателей, благодаря подвигу которых была позже проложена железная дорога Абакан - Тайшет.
Надо сказать, что в творчестве своем Афанасий Коптелов, о чем бы он ни писал, всегда шел от жизни, от ее суровой подчас и драматичной правды. Потому и произведения его предельно правдивы, достоверны. Но проникнуты, в то же время, жизнеутверждающим пафосом. И в этом их, может быть, самая большая ценность.
Афанасий Лазаревич Коптелов прожил долгую жизнь (умер он в возрасте 87 лет 30 октября 1990 года). Не все из созданного им равноценно и выдержало испытание временем, но лучшее, безусловно, еще долго будет востребовано читателем.
ВЕЛИКОЕ КОЧЕВЬЕ
В книге есть множество названий и терминов из алтайского языка, которые разъяснены в подстрочных примечаниях автора. Поскольку обращение к этим примечаниям требует оперативности, то они представлены прямо по тексту (в квадратных скобках) в конце соответствующих абзацев. Слова, к которым сделаны примечания, отмечены звездочкой.
К версии прилагаются сведения об авторе (About_author.rtf); фото его нигде обнаружить не удалось.
Книга интересна в том числе в этнографическом аспекте: сведениями из жизни и быта алтайцев. Правда, все это преимущественно в начале.
АННОТАЦИЯ РЕДАКЦИИ
Роман "Великое кочевье" повествует о борьбе алтайского народа за установление Советской власти на родной земле, о последнем "великом кочевье" к оседлому образу жизни, к социализму.
Цикл "Гражданская война в Сибири".
ВМЕСТО ЭПИГРАФА
(добавил Г.Н.)
На кирпичном заводе исправтруддома Анытпас сначала копал глину и возил песок с реки. Потом его поставили резать кирпичи. Кожа на щеках его посвежела, глаза стали теплее...
А.Л. Коптелов. "Великое кочевье"
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Костер погас на рассвете. Плавно покачиваясь, последние струйки дыма скрылись за густым переплетом черных стропил. Мелкие угли покрылись золой, и в аил* спустилась утренняя прохлада.
[Аил - юрта, сделанная из коры лиственницы. (Здесь и далее в квадратных скобках - примечания автора.)]
Борлай Токушев откинул длиннополую шубу, поднялся с кровати, срубленной из толстых бревен и расположенной, как во всех алтайских аилах, за очагом, на женской половине. Он был одет в потертые штаны из козьей кожи, ситцевую рубаху с большой медной пуговицей. По обычаям предков, Борлай не снимал рубахи, пока она, изношенная в лохмотья, не сваливалась с плеч. Скуластое бронзовое лицо с крутыми бровями и широким лбом, перерезанным глубокой морщиной, не знало воды. Исстари в сеоке Мундус* все считали, что вода безвозвратно уносит счастье человека.
Читать дальше

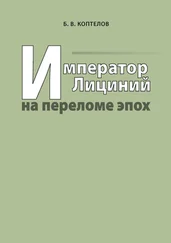
![Афанасий Коптелов - Дни и годы[Из книги воспоминаний]](/books/85187/afanasij-koptelov-dni-i-gody-iz-knigi-vospominanij-thumb.webp)