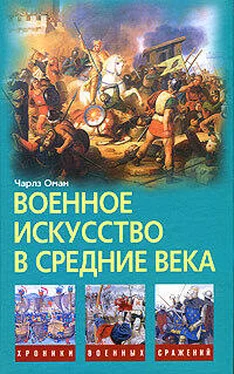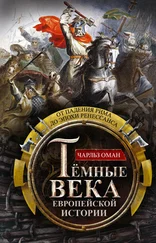Из этих указаний сразу видно, насколько боеспособность византийской пехоты отличалась от легионов древних времен. Римские воины I века до н. э., вооруженные лишь мечом и копьем, уничтожались издали парфянскими конными лучниками (тяжелая пехота; предварительно парфяне нейтрализовали римскую легкую пехоту и конницу. – Ред.). Теперь же принятие пехотой на вооружение лука изменило положение, и в перестрелке в невыгодном положении оказывался конный лучник. Не мог он надеяться изменить исход сражения и прямой атакой, поскольку «скутати» (копьеносцы с большими щитами), образовывавшие передний ряд византийской «тагмы», могли не подпустить к себе конников, вооруженных не тяжелыми копьями западного образца, а всего лишь мечами и короткими копьями. Поэтому тюрки избегали столкновений с имперской пехотой и пользовались своим превосходством в мобильности, чтобы избегать с нею прямых столкновений. Достать тюркских всадников могла, как правило, только конница.
Тактика, рассчитанная на успех против славян, заслуживает мало внимания. У сербов и словенцев конницы почти не было, и они главным образом были страшны имперским войскам в горах, где их лучники и копьеносцы, расположившись на недоступных позициях, могли издалека беспокоить захватчика, или же копьеносцы могли внезапно нападать на фланги передвигающихся колонн. Такие нападения могли быть сорваны при соблюдении надлежащей бдительности, если же славян заставали врасплох во время их грабительских вылазок в долины, имперская конница могла затоптать их или зарубить. (Автор ничего не сообщает о войнах империи со славянами, описанных, например, Феофилактом Симокаттом. Конные и пешие славянские воины, применение ими не только стрел и копий, но и осадных орудий – все это подробно описано византийскими авторами, а Иоанн Эфесский даже написал, что «славяне научились вести войну лучше, чем римляне». Сила натиска славян ослабла только после появления на территориях севернее Дуная аваров (с 557 г., выходцы из Северного Китая (жужани) – после гуннов нового страшного врага славян. – Ред.)
С другой стороны, в отношении сарацин (арабов) требовалась величайшая осторожность и сноровка. «Из всех варварских народов, – пишет Лев VI, – они были лучше всех информированными и самыми предусмотрительными в своих военных операциях». Если надо отбросить и обратить в беспорядочное бегство по ущельям Тавра «дикого богохульствующего сарацина», командующему, которому предстоит иметь дело с ним, требуется все его тактическое и стратегическое умение, войска должны быть высокодисциплинированны и уверены в себе.
Арабы, которых в VII веке вели на завоевание Сирии и Египта, своими победами не были обязаны ни превосходству своего вооружения, ни совершенству боевых порядков. Фанатичная смелость фаталиста позволяла без страха противостоять лучше вооруженным и дисциплинированным войскам. (Арабский боевой порядок был по-своему совершенен. Бой начинала первая линия, «Утро псового лая». Наращивала силу удара вторая линия, «День помощи». Была также третья линия, «Вечер потрясения», дополнительная конница, на флангах («Аль-Ансари» и «Аль-Мугаджери») и последний резерв, «Знамя пророка». – Ред.) Правда, обосновавшись на новых местах, когда первый взрыв энергии иссяк, арабы не пренебрегли возможностью поучиться у покоренных народов. Византийская армия также послужила образцом для вооруженных сил халифов. «Они скопировали у римлян большую часть военных дел, – пишет Лев VI, – как вооружение, так и стратегию. Подобно имперским командующим, они полагались на облаченных в доспехи копейщиков; но и сарацин, и его боевой конь изначально уступали противнику. При количественном равенстве конского и людского состава византийцы были тяжелее, мощнее и, когда дело доходило до конечного удара, брали верх над выходцами с Востока».
Только две вещи делали сарацин (арабов) самыми опасными противниками: их многочисленность и их необычайная способность передвижения. Когда намечалось вторжение в Малую Азию, объединились силы алчности и фанатизма, собрав воедино все силы от Хорасана до Египта. От врат Тарса и Аданы, опустошая плодородные нагорья Анатолийских провинций, хлынули несметные орды диких всадников Востока.
«Это были не регулярные войска, а множество перемешавшихся между собою добровольцев: богач на службе из гордости за свой род, бедняк в надежде пограбить. Многие из них идут, потому что считают, что Господь души не чает в войне и сулит им победу. Те, кто остается дома, и мужчины и женщины, помогают вооружать своих более бедных, думая, что делают доброе дело. Так что в их армиях нет однородности, поскольку опытные воины и не имеющие военной подготовки грабители шагают бок о бок» (Лев VI, «Тактика»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу