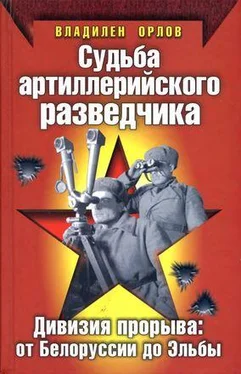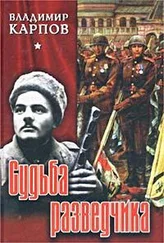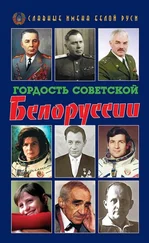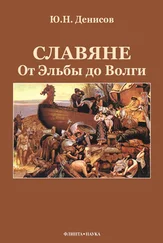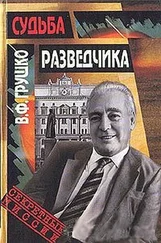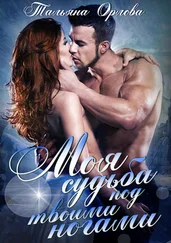Сводки с фронта и рассказы очевидцев были по-прежнему неважные (немцы у Киева и под Смоленском; Ленинград, кажется, вот-вот будет окружен), но мы ждали, надеялись на перелом, верили в него. И дождались! В начале сентября сводки сообщили о крупном успехе под Ельней (юг Смоленской области) и применении там нового, все сметающего оружия (это были первые «катюши»). В сводках стало меньше сообщений о тяжелых, упорных боях на других направлениях, увеличилось количество сообщений о «боях местного значения» или сообщений, что «существенных изменений не произошло». Отлегло немного от сердца, первый успех! Хотя по всему мы понимали, что пока это местные, не радикальные успехи (впоследствии не раз убеждался, что субъективное представление редко было ошибочным). Продолжалась эвакуация детей, институтов, отдельных предприятий, а это не к добру!
Радость была кратковременна, Ельнинская операция (30.08–06.09) не получила развития. С середины сентября вновь появились фразы об упорных, тяжелых, даже ожесточенных боях на Украине (вскоре был сдан Киев, и немцы продвинулись аж до Донбасса и далее до Ростова), ухудшилось положение под Ленинградом. Его почти окружили, перерезав все сухопутные пути. Осталась только связь по воде Ладожского озера. Почти каждый день сообщалось, что после упорных боев наши войска оставили очередной крупный город (мелкие города даже не назывались). А в начале октября пошли сообщения об упорных, напряженных, тяжелых, ожесточенных боях на Смоленском направлении. Значит, опять немцы наступают, а наши бегут! Почему опять? Ведь нет внезапности, как вначале! Резко усилилась эвакуация детей, части предприятий. До 14–16 октября мы не знали, что произошла катастрофа. Только в 90–2000-х годах были приведены цифры катастрофы: 5 армий и ряд частей еще 3 армий были окружены под Вязьмой и вскоре полностью разбиты, 300–500 тысяч пленных, потери около 1 миллиона. Почти вдвое больше, чем под Сталинградом!
Участились бомбежки Москвы, хотя их эффективность не увеличилась. К ним привыкли и приспособились. Пока мы были в дядиной квартире, то почти не ходили в бомбоубежище. Я обычно спал, просыпался при близком грохоте зениток, прислушивался и, когда он стихал, вновь засыпал.
В конце сентября или начале октября нескольких молодых ребят из нашей мастерской отправили с одной из команд на сооружение оборонительных рубежей под Москвой (рыть окопы, противотанковые рвы, ставить ряды «ежей» против танков). Тогда отправили много народу от каждого учреждения и предприятия. Все поняли, что на фронте плохо, опасность приближается. Меня не трогали, так как мал, только-только оформляю паспорт.
Паспорт я получил 26 сентября, а вот прописаться не успел. Пришел в милицию на прописку где-то в начале октября (раньше не получалось, то по работе, то по домашним делам), а ведавший этим пожилой, довольно упитанный капитан или майор с каким-то очень тревожно-печальным лицом повертел его в руках и сказал: «Не до прописки сейчас, видишь, какая обстановка, погоди 1–2 недели, пока все прояснится». Он, наверно, уже знал о разгроме наших войск под Вязьмой. Но через неделю я был уже далеко от Москвы. Однако все по порядку.
10–15 октября шла массовая, еще неплохо организованная, эвакуация детей. Моего братика Феликса определили в одну из партий эвакуируемых, и я, для проводов, договорился на работе перевести меня во 2-ю смену. Собрав чемодан вещей и сверток с продуктами, с тяжелым сердцем мы с мамой повезли его рано утром на Речной вокзал. Был пасмурный, холодный осенний день 15 октября. Временами падали снежинки. Всю дорогу в метро мы как-то утешали Феликса, напутствовали, как себя вести, и неоднократно повторяли, чтобы сразу по приезде на место написал, где и как устроился и немедленно сообщил адрес. А Феликс в свои 11 лет не грустил, хотя и был возбужден. Ему было интересно это «приключение».
У пристани шикарного по тем временам Речного вокзала стояли тоже шикарные, красивые, чистенькие теплоходы, предназначенные теперь для эвакуации детей. У нас приняли документы, дав взамен справку об эвакуации, зачислили брата в одну из групп и назвали № каюты. На вопрос, куда их повезут, ответили, что сами не знают, поэтому не могут дать адреса (подозреваю, что было указание «не говорить», то ли из-за незнания точного места прибытия, то ли из-за соблюдения «тайны», что тогда широко практиковалось, где надо и где не надо).
Нам позволили проводить Феликса в каюту. Шли по слегка и как-то успокаивающе покачивающейся палубе, по устланному ковром, очень чистенькому коридору, и вот тоже чистенькая, уютная, кажется, 2-местная каюта. Расположились на мягких кожаных диванах, опять пошли напутствия и утешения, которые Феликс слушал невнимательно, его возбудила и заинтересовала вся эта новая обстановка. Вскоре появился сосед его возраста, тоже с родителями. Раззнакомились. Заглянули еще несколько ребят, с которыми Феликс быстро нашел общий язык (он был очень компанейский) и перестал обращать на нас внимание. Слез не было. Взрослые понимали трагизм положения и необходимость эвакуации, старались держаться бодро. А ребята не чувствовали этого трагизма и просто были возбуждены и даже воспринимали все с повышенным интересом: первый раз на таком теплоходе, который они видели только в кино или на плакатах! Не помню, сколько мы так просидели, поговорили с воспитателем, с другими родителями, но вот раздался гудок и через пароходные динамики провожающих попросили удалиться. Попрощались, немного постояли у пристани, наблюдая, как теплоход отшвартовался и стал медленно удаляться. На палубе стояли дети, махали нам, а мы им. Было как-то тревожно-грустно. Что ждет их впереди, а что нас, когда и как увидимся?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу