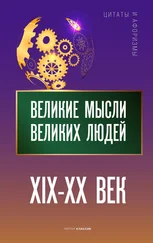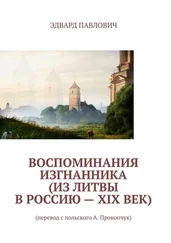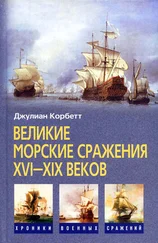Герцог Вальми (Келлерман, став в 1804 г. одним из маршалов Наполеона, принял этот титул по названию поля сражения) за свою долгую военную карьеру участвовал во многих победоносных битвах, гораздо более блистательных и знаменитых, чем та, память о которой он нежно лелеял в своем сердце. Ему пришлось стать свидетелем жестоких побоищ, когда кровь лилась рекой, в сравнении с которыми число жертв сражения при Вальми кажется каплей в море, а сама битва, на взгляд стороннего наблюдателя, является лишь мелким, незначительным эпизодом истории. Но он сумел верно оценить огромное значение этого события, с которым, как ему хотелось, должна была ассоциироваться его деятельность при жизни и после смерти. Успешное сопротивление, которое смогли оказать только что призванные новобранцы и остатки старой французской королевской армии объединенным силам внешнего врага из Пруссии и Австрии, а также изгнанным представителям французской знати, раз и навсегда определило воинственный характер революции. Неграмотные и малограмотные ремесленники и мелкие торговцы, простые горожане, мастеровые и крестьяне, все те, кто принадлежал к среднему и низшему классам населения Франции, осознали, что они могут выстоять под вражескими ядрами, вести огонь из ружей и скрещивать штыки с противником. При этом они совершенно не нуждались в утомительной военной муштре и надзоре со стороны офицеров – выходцев из знатных родов. В них проснулись не осознанные ранее способности к солдатской службе. Они сразу же сумели поверить в себя и в своих товарищей, и вскоре эта вера переросла в дух безграничной отваги и честолюбия. «С грохота орудий при Вальми начались их победоносные походы, которые привели их армии в Вену и к Кремлю» (откуда их погнали до самого Парижа. – Ред. ). [52]
Тяжелые размышления вызывает анализ того неутомимого гражданского и военного энтузиазма, которые на исходе XVIII века стали национальной чертой французов, и сознание того, что их тревожащее народы влияние не прекращается и в наши дни. Кажется, во Франции невозможно построить стабильную систему правления, которая будет передаваться от поколения к поколению и которая избавит ее народ от коррупции и всеобщего насилия. А всякая революция в Париже заставляет содрогаться весь мир. Даже успехи союзных держав, достигнутые в войне против Франции в 1812—1814 и 1815 гг., какими бы важными они ни были, не смогли вычеркнуть из памяти предшествующие 23 года потрясений и войн.
В 1830 г. была свергнута династия, навязанная Франции силой иностранных штыков. И народы сразу же содрогнулись в ожидании очередного всплеска анархии в стране и возрождения честолюбивых целей французов. Они «смотрели в будущее в тревожном ожидании периода разрушений, подобного тому, что испытал на себе римский мир в середине третьего столетия нашей эры». [53]
Луи-Филипп сумел дезориентировать революционеров, и какое-то время казалось, что ему удастся задушить революцию.
Но, несмотря на законы Фиши, на блистательные французские завоевания в Алжире, на браки, стирающие границу на Пиренеях, сотни укрепленных крепостей и сотни тысяч солдат, революция жила и ждала выхода своей энергии. Старый дух титана постоянно стремился вверх, ему было тесно в рамках «монархии с республиканскими институтами». Наконец, четыре года назад (в 1848 г. – Ред. ) все здание королевства треснуло и было разрушено, будто одним дуновением ветра, в результате восстания демократов в Париже. И сразу же последовали новые восстания, баррикады, свержения крупных и мелких монархов, вооруженные столкновения между сторонниками различных партий, государств и народов. В недавней европейской истории эти события стали обычным явлением.
Сейчас Франция называет себя республикой (уже в 1852 г. произошел переворот, и Франция до 1870 г. снова стала империей. – Ред. ). Впервые она присвоила себе этот титул 20 сентября 1792 г., в тот самый день, когда было выиграно сражение при Вальми. От этой битвы берут свое начало демократические перемены 1848 г., когда так же, как и в 1792 г., в Париже была провозглашена республика, исповедующая те же принципы и ценности.
До той битвы перспективы развития демократии в Европе представлялись иными. И это иное развитие событий могло бы отразиться на нынешнем состоянии французского народа, если бы колонны герцога Брауншвейгского наступали более решительно, а солдаты Дюмурье и Келлермана, напротив, оборонялись менее стойко. Когда в 1792 г. Франция начала войну с великими европейскими державами, у нее еще и в помине не было той прекрасно организованной военной машины, которая была создана с учетом опыта нескольких революционных войн и которой страна обладает и поныне. В последние годы правления короля Людовика XV старая королевская армия постепенно приходила в упадок. Это относится как к ее численности, так и к оснащенности современным оружием и боевому духу. Военная слава, добытая после того, как Людовик XVI отправил на войну в Америку (а также в Индию и др. – Ред. ) дополнительные силы, несколько восстановила прежний престиж военных. Неподчинение и дух анархии, порожденные участием в революционных беспорядках сначала французской гвардии, а затем и солдат армейских полков, вскоре распространились по всей армии. Во времена Учредительного (1789—1791), а затем Законодательного собрания каждая жалоба солдата на офицера, какой бы пустячной или безосновательной она ни была, рассматривалась пристрастно, как считалось, с соблюдением принципов свободы и равенства. Это привело к постепенному падению дисциплины и разложению солдат старой армии. Военных обвиняли в том, что ими командуют запятнавшие себя представители аристократии, а в военном министерстве царят путаница и некомпетентность. Многие самые боеспособные полки последних лет монархии были укомплектованы иностранцами. Они были либо истреблены в попытках защитить трон от восставших, как это произошло со швейцарцами, либо расформированы. Солдаты этих частей были вынуждены бежать за границу, и многие из них впоследствии оказались в рядах иностранных армий, вторгшихся во Францию. Кроме того, в результате эмиграции представителей знати французская армия лишилась практически всех старших офицеров и значительной части младшего офицерства. Более 12 тыс. юношей французских аристократических фамилий, которые из поколения в поколения служили на командных должностях армии Франции и которые, как продолжали считать в народе, в случае войны возглавят солдатские массы, теперь собрались под знамена Конде и других руководителей эмиграции. Теперь они намеревались сокрушить французские войска и овладеть Парижем. Те же, кто занял их место во французских полках и бригадах, пока не имели ни соответствующей подготовки, ни опыта. Они были ненадежны и не пользовались авторитетом у солдат.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
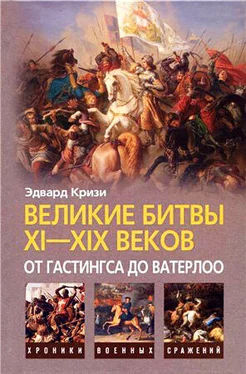


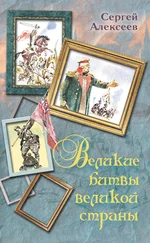

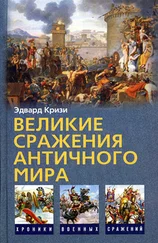
![Эдвард Беллами - Утопия XIX века. Проекты рая [litres с оптимизированной обложкой]](/books/414068/edvard-bellami-utopiya-xix-veka-proekty-raya-litre-thumb.webp)
![Эдвард Беллами - Утопия XIX века. Проекты рая [сборник litres]](/books/414093/edvard-bellami-utopiya-xix-veka-proekty-raya-sborn-thumb.webp)