В 1936 г. А. И. Микоян вполне серьезно заявлял, что «до революции пили именно оттого, чтобы напиться и забыть свою несчастную жизнь… теперь веселее стало жить. От хорошей жизни пьяным не напьешься. Весело стало жить, значит и выпить можно» [53] Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1952. С. 79.
. Но подобными высказываниями представители советских властных структур прежде всего оправдывали возрастающее потребление спиртных напитков в высших слоях советского общества, теперь уже вполне официально приобщавшихся к высокачественным видам алкоголя. Не случайно в 1936 г. Сталин, по свидетельству Микояна, был весьма недоволен, что стахановцы — представители новой элиты — не получают достаточного количества шампанского [54] Подробнее о культурологическом значении наращивания производства шампанского во второй половине 30-х гг. см. Gronov V. Caviar with Champain. Good Life and Common Luxury in Stalin's Soviet Union // Suomien antrorologi. 1998. № 4. P. 29–40.
.
Но реальные возможности обеспеченной жизни, в которой нормой будет считаться умеренное потребление высококачественных спиртных напитков в необходимых для пополнения государственного бюджета размерах, имелись у небольшой части населения. В советском обществе 30-х гг. явно наличествовали элементы аномического состояния, способствовавшего перманентному алкоголизму.
Конечно, и в 30-х гг. наиболее распространенным было бытовое пьянство, связанное с ритуалом проведения досуга за столом со спиртными напитками. В качестве примера можно привести выдержку из воспоминаний известного ученого филолога Вл. Маркова. Описывая свою студенческую юность конца 30-х гг., он вспоминал: «На первом курсе довольно много пили. Данька (друг детства. — Н. Л.) знал пропорцию чая, которую надо прибавлять к водке так, чтобы она, не теряя цвета, теряла сивушный запах… Когда умер Шаляпин, были поминки: пили водку, закусывая, беря пальцами, одной кислой капустой, которая лежала прямо на столе, без тарелки» [55] Марков Вл. In ego in arcadio… Воспоминания // Звезда. 1995. № 2. С. 135.
.
Любопытна в этом тексте фиксация возможности потребления рядовыми ленинградцами лишь дешевых, низкокачественных напитков, а не только констатация выпивки как нормы молодежного досуга. Во многих ситуациях пьянство являлось и специфическим видом адаптации, особенно в случаях необходимости приспособления к законам коллективного проживания. Это в первую очередь касалось рабочих общежитий, которые стали основной формой жилья в 30-х гг. Большинство общежитий того времени в Ленинграде были барачного типа, грязные, плохо оборудованные. Проживание в них сопровождалось массой неудобств: холодом, теснотой, антисанитарией, что уже само по себе порождало тягу к спиртному. К такому выводу пришла в 1937 г. комиссия ленинградского городского комитета комсомола, обследовавшая общежития города. В докладной записке, составленной участниками проверки, было зафиксировано: «В общежитиях города имеют место пьянство, хулиганство… драки, прививаются нечистоплотность и некультурность. В общежитии «Мясокомбината» нет никаких развлечений, целый день лишь играют в карты и пьют водку» [56] ЦГА ИГ Д. Ф. К-881. Оп. 10. Д. 190. Л. 18–23.
. В таких общежитиях в это время жила почти треть ленинградских рабочих.
Не изменилась в лучшую сторону по сравнению с 20-ми гг. и ситуация в общественно-политической жизни страны. Развернувшиеся в стране репрессии не могли не повергнуть часть населения в депрессивное состояние, выход из которого многие искали в пьянстве. Не следует забывать, что несмотря на утверждение сталинского руководства об общественно-политическом и идейном единстве советского народа, элементы социального неравенства в СССР 30-х гг. проступали достаточно отчетливо. При определении социальных и политических перспектив советское руководство ориентировалось на представителей советской аристократии. Это создавало обстановку психологической неуверенности. усугублявшейся общественно-политической ситуацией второй половины 30-х гг. Чувство страха или желание выдвинуться толкало одних к конформистским формам поведения, других — наиболее психически незащищенных — к ретритизму, выражавшемуся в алкогольной зависимости. Пьянство и алкоголизм являлись реальностью советского общества 30-х гг. Поэтому, отказавшись от утопических представлений первых лет революции о социализме как об обществе всеобщей трезвости и одновременно понимая иллюзорность утверждения о культурном потреблении спиртного как уже утвердившейся норме жизни советского народа, властные и идеологические структуры судорожно искали удобное для себя решение вопроса об отношении к спиртному.
Читать дальше
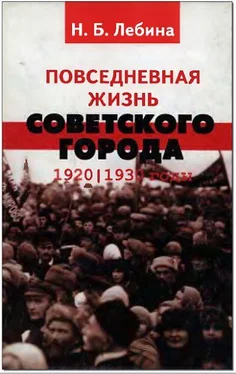


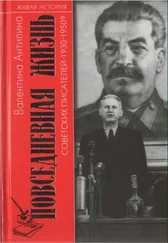


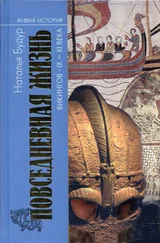
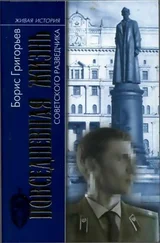

![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/432697/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya-thumb.webp)


