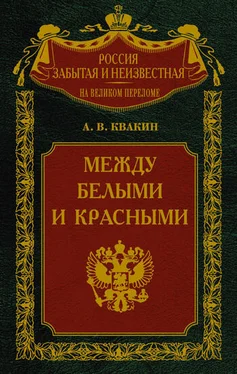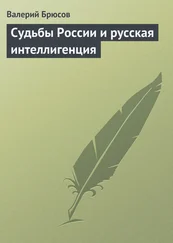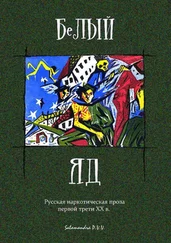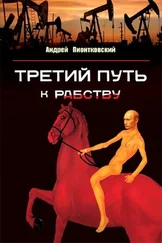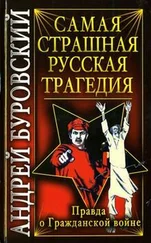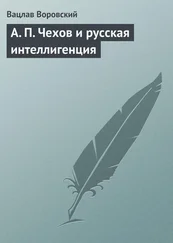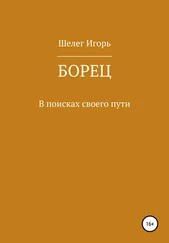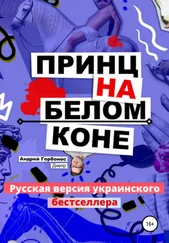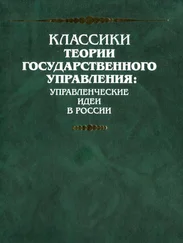В ответном письме от 23 марта 1922 г. Бахметев затронул многие сюжеты, поднимавшиеся ранее в письмах Маклакова: «Нам нужно остановиться, прежде всего, на том, чего не делать. Вы правильно пишете, что надежда сокрушить большевиков внешним воздействием прекратилась. Между тем существует Врангель с его армией, существуют монархические заговоры, офицерские организации в Германии, не изжиты окончательно попытки военных движений на Дальнем Востоке. Все это дает пищу Троцкому и даже представляет некоторую опасность осложнений в будущем. Все эти организации кем-то поддерживаются, с ними сносятся, за них заступаются перед иностранцами. Какое полезное и обширное поле для русского представительства и вообще для разумного национализма за границей расчистить горизонты и правильно поставить мозговые перспективы иностранных правительств. Я все время твержу, что главная причина, почему иностранцы ищут сближения с большевиками, в том, что до сих пор противоположный путь разрешения русского вопроса в их представлении связывается с видами русских националистов на безнадежную с точки зрения иностранцев авантюру.
Что сделано в этом направлении? Помогает ли или вредит, скажем, Финансовый совет вылупливанию цыпленка своей абсолютно неясной для меня политикой в отношении к военным организациям, существованием генерала Миллера и пр.?
В Вашем письме 4 марта Вы критикуете формулу «низвержение большевизма», доказывая, что в лозунге «долой большевиков» есть громадная доза нелогичности и непрактичности. Вы пишете, что это – лозунг военный. Вы формулируете задачу национальной оппозиции, как помощь России перестать быть паразитной страной и сделаться страной производящей. Вам не нравится выражение «падение большевиков», – Вы предлагаете взамен термин «изменение методов управления». Мне кажется, я понимаю Ваши переживания; мне представляется, что Ваши рассуждения – реакция против того, что вокруг Вас. Я вижу в Ваших словах здоровое и естественное стремление раскидать те глупые и переставшие быть полезными вехи[выделено мной. – А. К. ], вернее, частокол, которым окружила себя в прошлом национальная эмиграция. Я согласен с Вами и вибрирую одинаковыми ощущениями, поскольку приходится говорить о практическом понимании, которое вкладывается поныне в понятие «долой большевиков». Но я не уверен, не перегибаете ли Вы в Вашем правильном возмущении палку. Я опять-таки возвращаюсь к тому замечательному по ясности изложению, которым Вы пришли к заключению о необходимости политической революции. Формула «изменение методов управления» позволяет предполагать, что не важно, в чьих руках останется политическая власть, и что дело лишь в том, какие методы или приемы применяет эта власть и чем она руководствуется; но это означало бы возможность эволюции большевизма или большевиков, которую Вы справедливо отвергаете.
Я твердо стою на почве необходимости революции, – органической и полной смены людей, отражающей переход власти в новые руки и установление господствования производящих классов. Под словом «революция» не надо понимать обязательно организованное восстание, преднамеренное военное действие и прочее. Не следует, конечно, исключать насильственного импульса, но не им определяется смысл этого термина. Применяя математический язык к понятию революция, я вижу элемент разрыва непрерывности в момент замещения правящей группы иной, по существу противоположной. Эта противоположность, исключающая постепенный переход, и обуславливает необходимость разрыва непрерывности…
…Я не вижу, как можно приложиться к происходящему процессу в России, по крайней мере, извне, на почве какого-то обдуманного и принципиального плана. Как ни вертеть, но это будет соглашательство, которое усилит большевиков. Конечно, когда я говорю о соглашательстве, я имею в виду сколько-нибудь широкое и выявляющее себя течение вроде «Смены вех». Я не имею в виду работу отдельных профессионалов-интеллигентов в России, поскольку они в неизбежности бытовых условий приобщаются фактически к большевистской государственности. Там работа их есть внутренняя работа взращивания цыпленка, есть работа закрепления антибольшевистской полярности. Еще в прошлом году, после падения Деникина, я высказал, тогда казалось, еретическую мысль, что не следует ставить препятствий отдельным лицам возвращаться в Россию, если это они желают. Но я по-прежнему против того, чтобы обобщать подобные стремления в какие-то общие формы, ставить их под знак национального императива и давать им идеологическую окраску» [427].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу