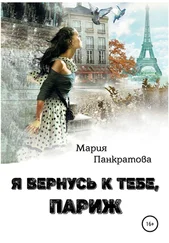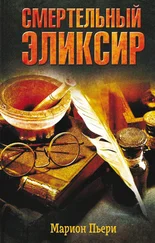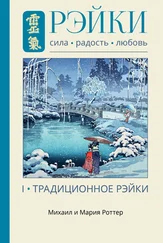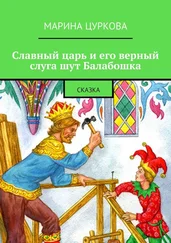На сессии Законодательного корпуса, начавшейся 14 февраля 1813 года, Наполеон прежде всего снял с себя какую-либо ответственность, обвинив в своей неудаче «татарское» варварство и суровость русской зимы [18] Он заявил, что «одержал в России верх над всеми препятствиями, созданными рукой человека, но чрезмерная и преждевременная суровость зимы все изменила». Цит. по: Mir J.-P. La bataille de Paris. Op. cit. P. 14.
. Затем, стремясь успокоить имперских сановников, он заявил, что хочет мира, но сразу же уточнил, что в полной мере верит в своих союзников и «никогда не заключит другой мир, кроме как почетный, соответствующий интересам империи и достойный ее величия» {82} 82 Lentz T. L’effondrement du système napoléonien. Op. cit. P. 358.
, формулировка, которая неумолимо вела дело к возобновлению военных действий.
Чтобы финансировать новую войну, государство начало продажу общенациональной собственности, прибегло к займу {83} 83 Ibid. P. 359.
и к новым рекрутским наборам с целью восстановить армию. Нужно было восполнить те потери, которые армия понесла в 1812 году:
«Сенатус-консульт от одиннадцатого января предоставил в распоряжение военного министра 350 тысяч человек: под знамена встали 100 тысяч национальных гвардейцев (солдат «первого призыва», то есть самых молодых), 100 тысяч новобранцев 1809, 1810, 1811 и 1812 годов, ранее избежавших призыва, а также 150 тысяч новобранцев 1814 года. Третьего апреля к ним добавили еще 180 тысяч человек — в это число входило 10 тысяч солдат почетного караула, 80 тысяч национальных гвардейцев и 90 тысяч рекрутов 1814 года» {84} 84 Ibid. P. 360.
.
Этот рекрутский набор проходил спокойно, и дезертирств пока было мало, хотя, как сообщают некоторые полицейские бюллетени, население относилось к грядущей войне с усталостью и отвращением. Но Наполеону до этого не было дела. 15 апреля он покинул Сен-Клу; 17-го он был в Майнце, а 25-го в Эрфурте. В его распоряжении было около 500 тысяч солдат {85} 85 См.: Mir J.-P. La bataille de Paris. Op. cit. P. 14
. [19] «Согласно официальным документам, Великая армия на Эльбе, находившаяся под командованием князя Евгения, составляла 100 тысяч человек, воинский набор 1813 года дал еще 300 тысяч человек, 10 тысяч составлял почетный караул, и, если добавить еще остававшиеся союзные контингенты, общая численность войск должна была приближаться к этой цифре».
В конце 1812 года, когда первые русские войска готовились форсировать Неман, коалиция против Наполеона еще не сложилась, и бескомпромиссно сражавшаяся с ним империя Александра, казалось, находилась в абсолютной изоляции: по крайней мере на бумаге Пруссия, государства Рейнского союза и Австрия оставались союзниками Наполеона. Таким образом, важнейшей задачей Александра I было привлечь к России Пруссию, а также добиться нейтралитета, а при возможности и союзных отношений с государствами Рейнского союза. Но этот план оказалось трудно реализовать [20] Как царская, так и советская историография склонны, хотя и по разным причинам, преуменьшать, а то и замалчивать трудности, с которыми столкнулись русские в отношениях с союзниками. См.: Могилевский Н.А. От Немана до Сены. Указ. соч. С. 10–13.
.
Несмотря на полный крах вторжения в Россию, в конце 1812 года Фридрих-Вильгельм III еще боялся открыто выступить против императора французов: часть прусской территории была по-прежнему оккупирована французскими войсками, а в Берлине, во главе 10-го корпуса Великой армии, насчитывавшего 12 тысяч человек, находился маршал Ожеро. Но часть прусских элит, а также общественное мнение, все больше проникавшиеся национализмом и желавшие, чтобы Пруссия вновь обрела свою независимость, подталкивали короля к сближению с Россией. В этой ситуации ему было сложно по-прежнему отказываться от союза с Петербургом, но он стремился как можно дороже продать свое согласие. От Александра I ему нужна была гарантия, что в случае победы над Наполеоном будут восстановлены прежние границы Пруссии, то есть он вернет земли, отобранные у него для создания Великого герцогства Варшавского, а также подтверждено его влияние в Северной Германии. Но царь отказывался идти на такие уступки: он соглашался на восстановление статуса Пруссии, ее целостности и влияния в Северной Германии, но не хотел давать никаких обещаний по польскому вопросу, не желая подвергать опасности собственные замыслы. Таким образом, двусторонние переговоры оставались бесплодными и только укрепляли Фридриха-Вильгельма III в его склонности к выжидательной политике.
Читать дальше
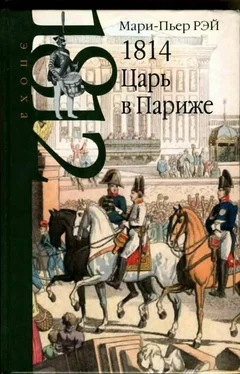
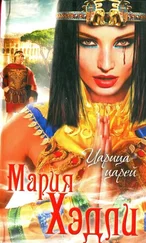
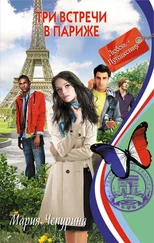
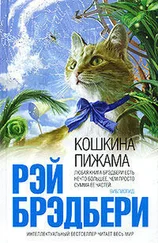
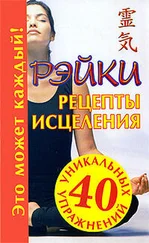
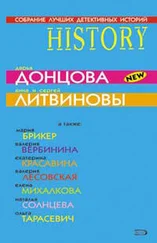
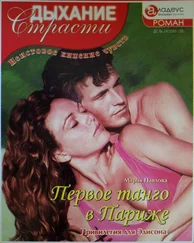
![Мария Амор - Смертельный вкус Парижа [litres]](/books/432915/mariya-amor-smertelnyj-vkus-parizha-litres-thumb.webp)