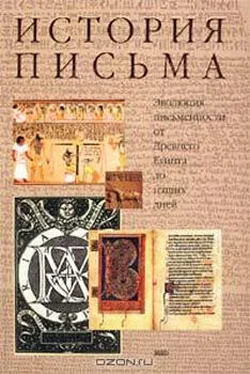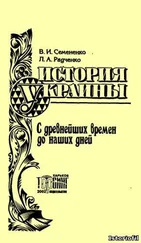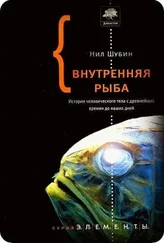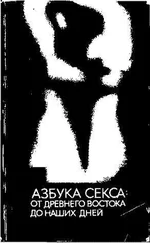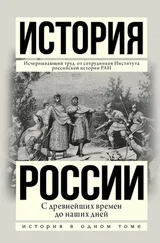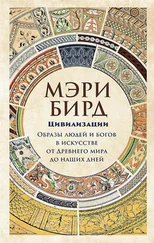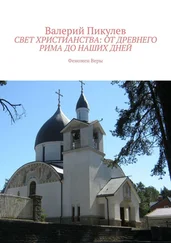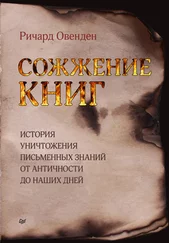Как особый вид идеографического письма, сохранившийся до нашего времени, следует рассматривать тамги . Они широко распространены у кочевых народов, по ним определяют принадлежность владельцу животных, предметов домашнего обихода и т. д. Они вырезаются на ушах животных, выжигаются или проставляются краской на шкуре, вырезаются или рисуются на предметах. Тамги существуют у всех нецивилизованных народов. Найдены письменные свидетельства их существования на Древнем Востоке, у вавилонян и хеттов. Но и в Европе, особенно на северном и восточном побережье Германии, они сохранились до настоящего времени в виде домовых знаков (Hausmarken, сканд. Bomerker). Особенно хорошо известны знаки с острова Фер. Там каждому дому принадлежал знак, образованный в большинстве случаев прямыми линиями. Некоторые знаки имели рисуночный характер и были связаны с профессией владельца дома; так, изображение мельницы указывало на мельника, изображение ключа — на церковного старосту, и т. д. В этом смысле домовые знаки являются настоящими идеограммами. Неясно, представляют ли собой знаки в форме геометрических фигур, смысл которых понять невозможно, модификацию рисунка или это произвольно выбранные неизобразительные значки. Эти домовые марки исполняли в некотором смысле роль монограмм их владельцев: раньше неграмотные пользовались ими как обычными буквами при подписании документов, наиболее состоятельные заказывали печати с такими знаками.
Если метки выступают как сокращения для имен или фамилий, то условные изображения, принятые в преступном мире, — это «сокращенные» изображения целых событий. Они представляют собой рисуночные знаки, известные всему преступному миру или же созданные для конкретного случая. Власти, естественно, издавна заинтересованы в собирании и толковании этих знаков; поэтому самое старое собрание датируется 1540 годом. Самый полный сборник последнего времени (1700 знаков) опубликован И. Гроссом в 1899 г.
Сокращенное изображение целых процессов через отдельные «словесные» рисунки засвидетельствовано и у примитивных народов, но там оно применяется совершенно в других целях. Известно, что северо-американские индейцы составляли краткие хроники, называемые Winter-Counts («счет зим» — индейцы ведут счет годам по зимам).
Культовый характер свойствен так называемым кекиновин , употребляемым также индейцами. Смысл их известен только служителям культа и является мнемотехническим вспомогательным средством для запоминания порядка следования магических песнопений и формул заклинаний. При этом каждому рисуночному знаку соответствует не слово песни, а целое предложение или стих. Вид рисунка вызывает в памяти заученный стих, а последовательность рисунков соответствует порядку следования стихов.
Культовый характер носят также хроники индейцев-делаваров под названием Валам-Олум («правдивая живопись»), содержание которых составляют мифология и история племени, изложенные в стихотворной форме. Каждому стиху песни с неизменным текстом соответствует рисунок, способствующий запоминанию таким образом, что при виде его в памяти исполнителя всплывает определенный стих.
Сокращенное рисуночное изображение раз и навсегда установленных фраз лежит в основе записи пословиц африканского народа эве (Того). Главные составные части известного и неизменяемого предложения передаются рисуночными знаками того типа, которому К. Майнхоф дал название фразовое письмо .
Определенный рисунок соответствует в большинстве случаев определенному предложению. Отдельное слово не выделяется, вообще говоря, как независимый элемент и не обозначается отдельным рисунком; это имеет место только от случая к случаю. Но путь к словесному письму как таковому еще не найден.
Как предметное письмо, так и рисуночное не являются письмом в собственном смысле этого слова; это только предыстория развития письма, ибо с их помощью можно выразить лишь общий смысл сообщения, но не его точное звучание . О собственно письме можно говорить лишь там, где сообщение может быть передано пословно; неважно, какими средствами — с помощью ли словесного, слогового или звукового письма .
Для изучения дальнейшего развития письма у нас нет, к сожалению, достаточного эмпирического материала для наблюдений, так что мы можем проследить этот путь только теоретически, хотя и будем опираться на аргументацию, приобретенную в ходе предыдущего изучения. Для дилетанта все представляется довольно простым и выглядит примерно так: из идеографического, или фразового, письма развивается словесное письмо; из него, как следствие признания слога более мелкой звуковой единицей, — слоговое письмо и, наконец, после того как выделены звуки, — звуковое, или буквенное, письмо.
Читать дальше