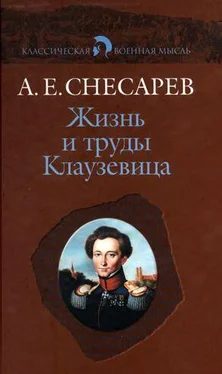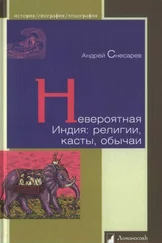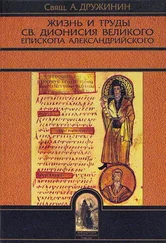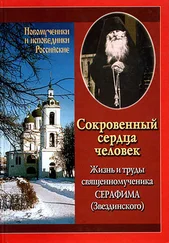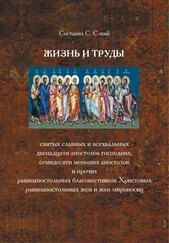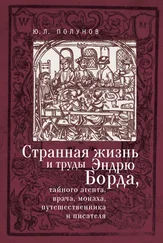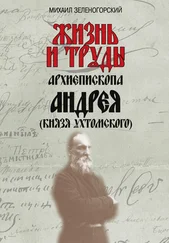Вновь возникает эта постоянная и больная тема о том противоречии между внутренними возможностями и притязаниями и серой внешней осуществимостью, противоречие, которое переплелось красной нитью вокруг жизни военного философа. Вновь и вновь возникает вопрос, ряд ли это случайностей или перед нами отражена какая-то постоянная причинность явлений?
Печально сложившийся фон жизни в 1812 г. повторился в войну за освобождение (и дальше) рядом аналогичных этапов. В весенний поход 1813 г. в первый момент положение Клаузевица было исключительно удачно: в качестве русского офицера генерального штаба он был прикомандирован к главной квартире Блюхера [162] Вопрос об этом был поднят Шарнгорстом. Сравните письмо последнего к Клаузевицу от 31 марта 1813 г. (Rankes Histor. и polit. Zeitschr. S. 212 и след): «…я льщу себя надеждой скоро вновь соединиться с Вами, я всегда признавал Ваши высокие качества (Ihren grossen Wert), но почувствовал вполне это впервые тогда, когда оказался заваленным работой. Только с Вами я понимаю самого себя, только паши с Вами идеи дружно паруются или в спокойном общении идут рядом одна с другой в неизменном направлении».
, где он находился в тесном единении с Шарнгорстом и Гнейзенау. Сколько истинной радости, судя по письмам к жене, внушил мрачному теоретику этот краткий солнечный луч счастья. «С премилой небольшой армией, во главе которой стоят мои друзья, идти по прекрасным районам, в прелестное время года, во имя такой задачи — это почти идеал земного существования», — писал он своей жене [163] 4 апреля 1813 г. Schwartz. II. S. 72.
. Но скоро обнаружилось, что он утерял прочную почву действительности. Когда Шарнгорст поднял речь о его возвращении в прусскую армию, король сначала ответил условно, но Гнейзенау, который в июне попросил себе Клаузевица в помощники, он отказал в довольно оскорбительной форме. Фридрих Вильгельм не мог забыть шага 1812 г., еще менее понять его. Хотя король уверил когда-то Шарнгорста, что в случае заключения союза с Францией он никого не будет удерживать [164] Так уверяет Клаузевиц в подлиннике «Похода 1812 года» (фамильный архив). В печати (Hinterlasscne Werke. VIII. S. 4) этот пункт выброшен.
, но все же он оставался чужд и холоден [к] мотивам тех офицеров, которые покидали его службу, тем же, которые потом выступали против своих же соотечественников, он не прощал никогда [165] Karoline v. Rochow. S. 47 и след.
.
В результате Клаузевиц оставался в каком-то промежуточном состоянии и тогда, когда в качестве генерал-квартирмейстера он был назначен в русско-немецкий легион, приданный к Северной армии. Хотя с командиром легиона графом Вальмоденом он стоял на дружественной ноге, но стратегическая обстановка не давала здесь никакого простора для крупных дел. Кронпринц Швеции уклонялся от каких-либо широких планов [166] Интересно при столь разнообразных взглядах на Бернадота суждение о нем Клаузевица. В письме к Гнейзенау (7 декабря 1822 года) он его определяет «очень обыкновенным человеком без особенных данных… очень добродушным и мягким».
, и легиону Вальмодена пришлось выполнять трудную и неблагодарную задачу по прикрытию фланга Северной армии против Даву и датчан. Попытки присоединить легион к победному ходу Силезской армии не удались. Лишь в феврале 1814 г. Вальмоден был отозван в Бельгию, но теперь его корпус, «настоящая имперская армия старого времени», по выражению Клаузевица, играл роль только обсервационной части.
Лишь после многих затруднений легион был принят в прусскую службу, и Клаузевиц был вновь прусским офицером.
Наконец, в кампанию 1815 г. он мог надеяться применить «все свои способности». Он был назначен начальником штаба III корпуса Тильмана. Но и тут счастье ему не улыбнулось. После Линьи 18 июня он помогал Тильману задержать Груши у Вавра [167] 18 тыс. человек удерживали 33 тыс. от поля главного сражения. Цифра 45 тыс., даваемая Клаузевицем, преувеличена ( Schwartz . II. S. 157. Ср. Дельбрюк. Гнейзенау. 3-е изд. II. С. 208.
; была достигнута стратегическая победа, но ценой тактического поражения. 19 июня, уже имея сведения об успехе [при] Ватерлоо, Тильман решился отступить, причем отошел слишком далеко в направлении на Лувэн и потерял связь с Груши, что позволило последнему, по получении данных о разгроме Наполеона, отойти сокращенной дорогой и беспрепятственно достигнуть Самбры.
В какой мере виновен тут Клаузевиц, сказать определенно нельзя [168] Трейчке (Deutsche Geschichte im 19. Jahrh. I. S. 764) не стесняется допустить, что большая часть вины в этом случае падает па Клаузевица. Rothfels (S. 67) прямо говорит, что Клаузевиц настаивал на отходе (auf den Rückzug drang). Попытка усматривать в шаге очень тонкий стратегический расчет — оттянуть Груши, чтобы тем легче его отрезать ( Lettow — Vorbeck. Napoleons Untergang. I. S. 460), является и по обстановке, и психологически маловероятной.
, но, конечно, при тех связях, которыми он в это время располагал в армии (Гнейзенау), голос его в указанном шаге должен был быть решающим, да и Тильман, незадолго пред этим из саксонской службы перешедший на прусскую, едва ли чувствовал себя при таких альтернативах очень смелым.
Читать дальше