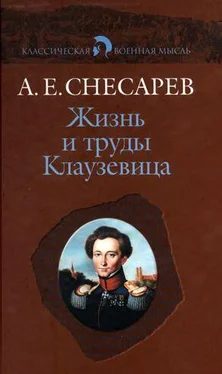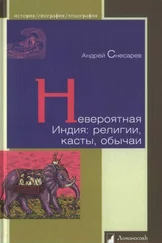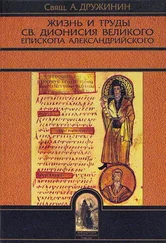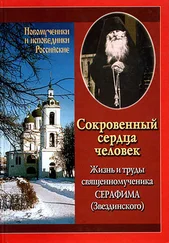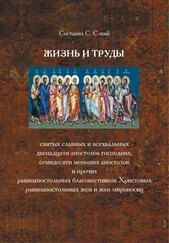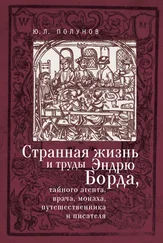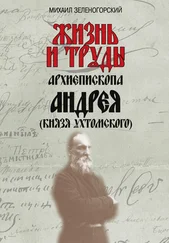Конечно, Клаузевиц делал все то — и делал усердно — что стояло как необходимость на его служебной дороге, но иное понимание дела внушало ему тревогу и недоверие к своим усилиям. В биографическом смысле поэтому представляется более важным не то, что писал и делал Клаузевиц в этот период, но чем он был, о чем он думал и что переживал.
Отвечая на переживаемые сомнения, Мария писала ему: «…я убеждена, что благородный человек никогда не живет напрасно, если бы даже ему не удалось принести миру определенную пользу. Одно только его существование является благом для мира, и это благо никогда не бывает столь великим, как в те минуты, когда истинная добродетель столь редка».
Пребывание в Кёнигсберге должно было широко отозваться на миросозерцании военного философа. Он следил воочию за разными фазами государственного строительства, имел общение с лучшими офицерами Пруссии, наблюдал Двор, эту кузницу политических вкусов и устремлений. К тому же он много читал за это время. Характер его чтений был скорее общественно-политический, военные темы занимали его только в служебное время. По письму от 15 апреля 1808 г. мы узнаем об его знакомстве с Фихте; читая, вероятно, его «Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters» [108] Клаузевиц не называет заглавие груда. Он пишет лишь: «Was Fichte über Bestimmung des Menschengeschlechts und über Religion gesagt hat, ist sehr in meinem Geschmacke» [ «To, что Фихте говорит об определении рода человеческого и о религии, очень мне нравится»]. Rogues в труде усматривает (S. 37) «Die Bestimmung des Menschengeschlechts» [ «Назначение человека»] от 1800 г., но правильнее предполагать «Grundzüge» [вероятно, «Основные черты современной эпохи» ( нем. ) Прим. ред. ], которые также говорят о назначении рода человеческого (лекция 1) и о религиозном характере времени (лекция 16), но свежее по времени и актуальнее по содержанию.
[ «Принципы современной эпохи» (нем.) ], он почувствовал в себе пробуждение старого тяготения к абстрактному мышлению, но он тут же находит: «Все не более, как чистая абстракция… Не очень жизненно (praktisch) и мало связано с историей и опытным миром». Характерна в этом случае зрелость мысли прусского офицера, который умел разбираться и критически отнестись к таким сложным построениям, как труды Фихте. К последнему, например, приходится отнести следующие строки: «Велико, неописуемо велико это время; его понимают немногие люди; даже для превосходных ученых и мудрецов среди нас оно редко более чем орудие, чтобы надумать какую-либо полную тумана систему» [109] Письмо Марии 7 августа 1808 г.
.
В это же время он углубился в историю Нидерландской революции, и Вильгельм Молчаливый ему живо напомнил Шарнгорста. И, конечно, своим темпераментом, флегматичным и рассудительным, своей прямотой и упорством, наконец, своей ролью защитников национальной независимости против могущественных деспотов, эти два исторических деятеля очень легко сближаются между собой.
В часы досуга, по вечерам Клаузевиц читал «Tristram Shandy» Стерна [110] Письмо Марии 21 мая 1809 г.
.
Но все же, нужно еще раз подчеркнуть, основной фон переживаний Клаузевица был нерадостный.
Известно, как сильно возмущал и других реформаторов инертный шаблонный дух времени, как они видели повсюду одну лишь пассивность и слабость [111] Французский посланник С.-Марсан (St. Marsan) считал массу инертной, более высокие круги — дружественными французам ( Lenz M. Kleine histor. Schriften. S. 340 и след.). Беклен смотрел иначе: «Es liegt im Menschen ein Keim zum Grossen und Niedrigen; es kommt darauf an, welcher geweckt wird; so ist es mit der Nation» [ «В человеке лежит зародыш и великого, и низменного; все зависит от того, какой будет разбужен; также обстоит дело и с нацией» (нем). Прим. ред. ] (Aus der Zeit der Not. S. 119 и след.).
. Тем сильнее переживал такие картины Клаузевиц, который из-за внутренних побуждений сам к себе предъявлял огромнейшие требования, готов был последнее положить на алтарь независимости страны и нации и все выше рос в этом чувстве решимости и который всюду видел преграды материи, все вялое, тупое и слабое, словно удары клинка, вколачивалось в его собственное моральное существование. «Жить с человеческим родом, который не уважает самого себя и не способен пожертвовать своим добром и кровью во имя самого священного, это огорчает и подрывает все радости существования» [112] Schwartz. I. S. 326.
.
Так повторилась судьба юности. Чем более сознательно Клаузевиц стремился к намеченным идеалам, тем глубже все его существо охватывалось разочарованием [113] В письме от 28 ноября 1808 г. он говорит об этом красиво и горько: «…je mehr Überlegung ich darauf verwende, je grösser die Sorgfalt ist, mit der ich in den dunklen Schacht hinein steige, um den funkelnden Edelstein zu graben, um so ärmer kehre ich zurück» [«…чем больше дум я направляю к этому, тем больше тщательность, с которой я погружаюсь в темную шахту, чтобы закопать там сверкающий бриллиант, и еще более бедным возвращаюсь назад» (чем). Прим. ред. ]
. Более и более в нем росли острота и резкость его натуры, болезненное чувство непонятого превосходства, робость, смешанная с горечью и сухостью, открыть пред чужими глазами силу своих переживаний. Его охватила острая нервозность, в нем росла ипохондрия, в несколько недель он постарел на целые года. К этому времени относятся придирчивые его характеристики со стороны Шёна и Фр[идриха] Дельбрюка. Но богаче и выразительнее тот образ Клаузевица, который набрасывает Каролина фон Рохов в своих воспоминаниях [114] Von Leben am preussischen Hofe. Aufzeichnungen von Karoline v. Rochow und M. De la Motte-Fouqué. Berlin, 1908. S. 38.
из 1809 г.: «Он обладал далеко не выгодной внешностью и имел в себе что-то холодно отталкивающее, что часто доходило до презрительности (Denigranten). Если он говорил мало, то это имело вид, как будто люди и предметы были для него недостаточно хороши для этого. И при этом же в нем жили поэтическая страстность и сентиментальность, которые проявлялись в его полной идеализма любви к превосходнейшему, любвеобильному, образованнейшему, возвышенно настроенному… существу сего мира, его жене, в стихах и в отдельных взрывах речи. Вместе с этим он был переполнен пылким честолюбием и стремился более к древнему самоотречению, чем к неудовлетворимым притязаниям современного типа. Он имел мало, но глубоких и прочных друзей, которые больше на него рассчитывали и больше от него ожидали, чем его ли судьба или обстоятельства, или его неприютная природа позволили ему это сделать».
Читать дальше