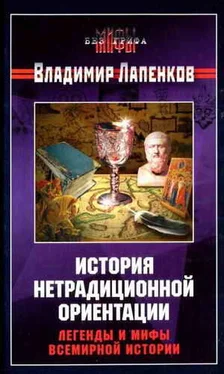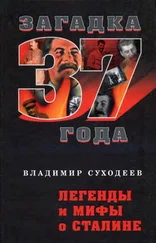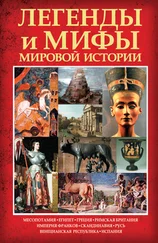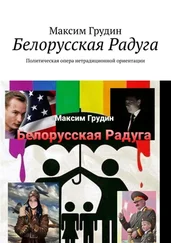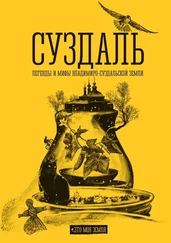Проблема «испорченного телефона» существовала всегда. Например, у Страбона мы находим имена роксоланов и рутенов (кельтская Аквитания), но у Пикколомини (папа Пий II) уже перечислены рас-тианы, роксаныу и росаны/россаны, со ссылкою на Страбона (хотя очевидно, что в последнем случае речь идет именно о роксаланах). Ошибки, наложения, путаница, неточный перевод были неизбежны и со временем нередко становились штампами. Некоторые обобщения рождались буквально из ничего. Так, у Птолемея (II в.) сказано, что Сарматию населяли венеды, позже, на Певтингеровой карте, встречаем наименование «венеды-сарматы». Для Приска (V в.) гунны и готы — это скифы, но «скифы» в контексте его истории — это просто варвары.
На естественные ошибки накладывались не менее естественные (в своем роде) политические претензии. В первоисточниках эпохи Великого переселения народов нередко говорится о соседстве, союзах и совместных нападениях на Империю славян, сармат и гуннов, славян и аваров, славян и германцев, но у более поздних авторов речь начинает идти уже о родстве этих народов и о правах на соответствующие территории. У польских авторов становятся модными рассуждения о происхождении от «воинственных сарматов», причем не столько поляков вообще, сколько шляхты. Мавро Орбини к своей довольно тенденциозной подборке материалов кое-что добавил от себя и сам послужил основой для теорий Татищева, Воланского, Венелина, Классена и других.
Здесь мы не углубляемся в подробное сравнительное рассмотрение основных и промежуточных этно-легенд о происхождении славян — теории сарматская, вандало-венетская, библейская, троянская и панноно-дунайская. Этимологии указанных авторов, послужившие основой современным неоисторикам, сами лишь ненамного научнее «народной этимологии» ранних памятников, вроде Великопольской хроники. Ср. в последней: «Нимрод по-славянски означает "Немежа" (Nemerza), что и понимается по-славянски как "не мир" (non pax) или "не измеряющий мира" (поп mensurans pacem), от которого началось среди людей рабство, в то время как прежде у всех была незыблемая свобода».
Сюда же отнесем и многие толкования античной и раннесредневековой литературы, начиная с «отца истории» Геродота. Освальд Шпенглер в свое время назвал античную историю «историей анекдотов», не сделав при этом скидки на то, что была она столь «некорректной» именно из-за наивной тяги к рациональности. То, что для нас представляется в данном случае «анекдотом», для полисного, уже практически мыслящего грека — это некая рациональная адаптация мифологического, исполненного разного рода фантастических фактов, предания. Попытки подобных перетолкований хорошо заметны у Плутарха на примере «биографии» афинского героя Тесея. Критский Минотавр у него — это «суровый и неприветливый» полководец царя Ми-носа, Кроммионский кабан — разбойница, прозванная «кабаном» за свою моральную неустойчивость, и т. п.
Такой «ученый» евгемеризм обладает невероятной живучестью и легко преодолевает тысячелетия. У академика Б.А. Рыбакова (1982, с. 30) находим следующие «исторические» транскрипции русского фольклора: «Баба-Яга… отзвук авангарда сарматских племен — языгов», былинный Калин-царь — это татаро-монгольский Менгу-Каан, 1239 г. (там же, с. 155), «под эпическим образом Змея подразумевались кочевники-киммерийцы» (1987, с. 25), «встреча Ивана-царевича с Лягушкой является фольклорным отражением соприкосновения русских дружинников… с местным мерянским населением» (там же, с. 490) [52] См. Рыбаков Б.А. «Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв.». М., 1982; «Язычество Древней Руси». M., 1987.
и т. д.
Но сегодняшние новаторы, приватизировавшие патриотизм, далеко оставили за собой академика Рыбакова по творческой дерзости и одновременно бескомпромиссности мысли. Возьмем для примера Алексея Трехлебова, автора произведений «Клич фюникса» и «Толковый словарь кощуника». Тоже, между прочим, академик, точнее, чл. — корр. Академии наук экологической безопасности человека и природы (МАНЭБ). Но не только какой-то «членкор», а еще и ученик ламы, прошедший «инициацию» в непальском монастыре, и… вы правильно угадали: есаул Кубанского казачьего войска.
В целом его книги демонстрируют стандартный набор неоязыческих ценностей: положительных — русский приоритет во всех областях, включая «первоязычность», «праписьменность» и «первородность», реестр ссылок на соответствующую литературу, и отрицательных — в первую очередь — «иудо-христианство». Но есть и индивидуальные достижения — оригинальные толкования терминов в духе метаисторического патриотизма, «кощунного» ведизма и хулиганского лингвогенеза. Давайте посмакуем вместе:
Читать дальше