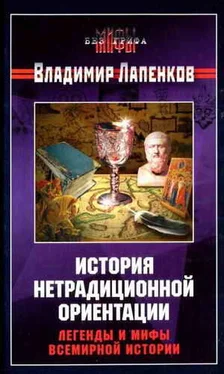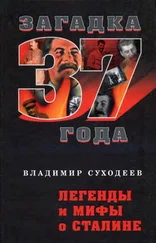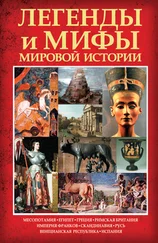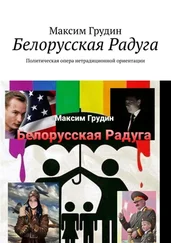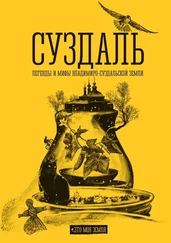Вот уж, напротив, как раз в этой широкой письменной традиции корни Ломоносова-историка и Егора Классена, а — с искажениями — также Миролю-бова, Шилова, Асова и т. д. Без Библии, Нестора и Геродота оставались бы только Асов и Кур… Но пора уже дать место рассуждениям тех писателей, на которых основывается большая часть доказательств ревизионистов.
Начнем с Василия Татищева:
«Байер, который хотя в древностях иностранных весьма был сведущим, но в русских много погрешал… Подлинно же славяне задолго до Христа и славяноруссы собственно до Владимира письмо имели, в чем нам многие древние писатели свидетельствуют…
…Из Диодора Сицилийского и других древних будет вполне очевидно, что славяне сначала жили в Сирии и Финикии… где по соседству еврейское, египетское или халдейское письмо иметь свободно могли. Перешедши оттуда, обитали при Черном море в Колхиде и Пафлагонии, а оттуда во время Троянской войны с именем генеты, галлы и мешины, по сказанию Гомера, в Европу перешли и берегом моря Средиземного до Италии овладели, Венецию построили и пр., как древние многие, особенно Стрыйковский, Вельский и другие, рассказывают. Следственно, в такой близости и сообществе с греками и итальянцами обитав, несомненно письмо от них иметь и употреблять способ непрекословно имели, хотя это только по мнению моему…
…Не трудно было оным предкам нашим, именуемым от греков скифами, письмо греческое задолго до пришествия Христова иметь. А поскольку не иные народы, а только славяне и сарматы в сих странах обитали, которых греки скифами именовали… следственно, оные наши и других многих из сих стран произошедших народов предки были…
…Славяне из Вандалии в Северную Русь около 550 года после Христа пришли… после того как всю Европу завоевали, и без сомнения письмо имели и с собою в Русь принесли, чему, можно уповать, наверняка доказательства сыщутся, если в Новгороде и Изборске искусному в древних письмах разобраться… Сии обстоятельства только некоторую вероятность представляют, что руссо-славяне тем или другим случаем письмо обрели прежде сочиненного Кириллом… Посему, если письмо имели, то несомненно и об имении истории верить следует…
Однако ж по сказаниям видимо, что они древние истории письменные имели, да оные давно уже утрачены и до нас не дошли, а к тому изустные предании служить могли, как Иоаким и о песнях народных воспоминает…
Что видится и с нашими славянами приключилось, что они сами, не писав истории, не только о делах, но и об имени настоящем нам известия не оставили, а у посторонних, как выше показано, под именем скифов и сарматов, оным на самом деле инородным, долгое время упоминались. Однако ж потом, как они почаще стали греков и римлян наездами навещать, то начали их собственные имена наружу выходить… иенеты, во время Троянской войны перешли оттуда же… прежде жили в Пафлагонии, а потом на Дунай пришли…»
Вот здесь уже духовная «колыбель» для Миролюбова и его последователей практически создана: задачи ясны, цели определены… Тем не менее, многое возможно, но не все полезно… Татищев (кстати, по некоторым известиям, член масонской ложи «Гармония») навряд ли возрадовался бы деяниям Миролюбова, Асова и компании:
«Польские авторы из Берозуса, Иосифа Жида [т. е. Бероса и Иосифа Флавия. — В.Л.] и других древних писателей доводят, что славяне от Мосоха, внука Иафетова, произошли и от его имени мосхи… именовались, и Московия именно оное древнее именование возобновила. Стрыйковский на это свидетельство польских писателей древних приводит, рассказывая: Мосох, шестой сын Иафетов, по толкованию расширяющий или распространяющий, есть отец и патриарх Москвы или Руси всех народов, славянский язык употребляющих… и назывались моски, московиты, модоки, максобы и пр…. Что же о происхождении имен у Стрыйковского, то надлежит прилежно рассмотреть, нет ли в том от любви к отечеству какого самомнения… родословия весьма далеко без достаточных доказательств придумывают, да иногда и неподходящее или явным свидетельствам противное к славе и чести своей натягивают… из-за недостатка подлинных известий, от кого славяне пошли, подлинно неизвестно…»
Наши новаторы (они же — неофиты донаучной традиции) читают Татищева весьма избирательно, беря у него лишь то, что им нравится, забывая всю «литературоцентричную» основу древней истории, не знакомой с археологией, палеографией и сравнительной лингвистикой. Один миф опирается на другой, одни и те же высказывания и догадки бесконечно муссируются множеством авторов, время от времени допускающих еще и неверное их прочтение. Особое внимание неофитов я обратил бы на следующую ремарку Татищева: «лучше незнание свое признать, нежели ложью хвалиться». Иловайский тоже предостерегал от излишнего патриотического старания:
Читать дальше