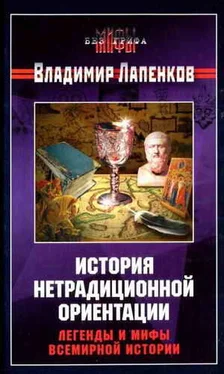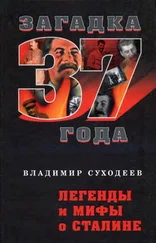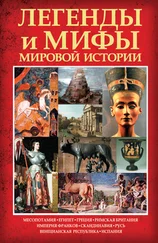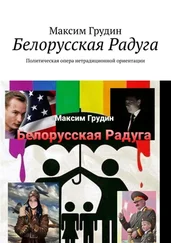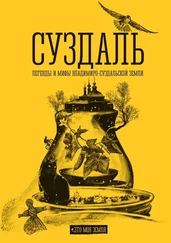Но высшая смелость отождествлений, доходящая до «демиургических» высот, — это когда толкованию подвергаются, так сказать, «заочные», отсутствующие в памятниках артефакты. Так (с. 216), сочетание бараньего черепа, обломков сосуда и отрубленной руки подростка (или женщины) с виртуально возможным (хотя и ничем не доказанным) былым присутствием овчины (якобы истлела без следа!) говорит автору об индоевропейской хтонической семантике, связанной с «прядильщицами судеб и лет». (Может быть, меньшим интерпретационным злом было бы просто подкинуть в могилу веретено?..) В другом месте (с. 146), рассуждая о ритуальном предназначении сосудов одного из погребений, автор констатирует: «содержимое сосудов осталось, к сожалению, неизвестным». Тем не менее, там, по его мнению, наверняка содержалась священная амрита, причем приготовленная «с применением человеческой крови и проч.».
Однако особенно впечатляет апелляция Шилова к археологическим памятникам, которых не существует! Точнее, пока не существует, так как они еще не открыты, но зато спрогнозированы (с. 368): «обнаружение их… можно ожидать в том районе, где будут обнаружены и мастерские, изготовлявшие большие усатовские [культура Сев. Причерноморья] кинжалы». «Не исключено, — продолжает автор, — что в том же — еще не обнаруженном — районе зародились не только усатовские статуэтки… но также "кикладские идолы" и соответствующий им… образ древнегреческого Приапа-трифаллуса».
А собственно, почему мы должны отказывать в способностях к паранаучным озарениям автору, чья система как раз и основана не на «устаревшей» причинной логике, а на анализе подсознания и шаманского экстаза? «Пракосмонавты», «туннели бессмертия», влияние космических излучений на развитие тантрических архетипов, и даже предоставление «погребаемым большей самостоятельности в устройстве своей потусторонней судьбы». Последнее особенно радует.
Индивидуальная специфика «экстатического» подхода Шилова к древним цивилизациям заключена в его теории «священной жреческой демократии». Мол, повсюду расхаживали странствующие мудрецы-шаманы и приобщали недоразвившиеся этносы к азам духовной культуры.
Аратта — это священная страна жреческой первобытно-коммунистической демократии, чьи посланцы стимулировали как создание Шумера, так и индоевропейской и индоиранской цивилизации, «укрощая стихию полукочевых племен» (с. 615, 619). А традиции Аратты сохранились в… Запорожской Сечи (с. 621). Рядом с таким откровением мелкая путаница фактами и их трактовкой — сущие пустяки, ведь, по решению автора, «открытие Аратты… это ключ не только к предыстории, но и к основам евразийской цивилизации». Более того, это и «формирование глобальной культуры XXI-? веков», «забота о будущем», воссоздание «Ноосферы ДУШИ» и «Врат Бессмертия», и «нет у человека задачи актуальнее этой!..» (с. 621–625; выделено Шиловым).
Науке, в традиционном смысле этого термина, здесь, разумеется, делать нечего, однако и претензии на власть новых «брахманов» (будь они демократами или аристократами с эрудицией Николая Федорова и пассионарностью Льва Гумилева) далеко не новы. На эти брахманские «грабли» всеобщего научного счастья мы уже наступали…
Рассмотренный выше исторический «дискурс» во многом базируется на этимологическом методе. Если так позволено будет выразиться. Этимология не обладает, конечно, точностью математики и даже строгостью некоторых других областей лингвистики, но все же, при всех условностях реконструкции и при всей важности интуиции, она основывается на научных методах. Нужно только понимать, что научный подход не означает полной «прозрачности», особенно когда это касается истории. Некоторые, даже самые прозрачные случаи требуют весьма корректного к себе отношения. Рассмотрим самые простые примеры.
Как можно правильно выразить на родном языке смысл реальных имен — Ваня, Йон, Ганс, Жан, Хуанито, Янек, Генике, Джанелли? Формально, как бы смешно ни звучало, — «Яхве милостив», поскольку этим значением заканчивается цепочка от рус. Иван, англ. Джон, нем. Иоганн — через средневеково-латинское Johannus и греч. Ioannes — к др. — евр. Yohanan. Или возьмем название такого учреждения, как «ломбард». Слово восходит к старофранцузскому «ростовщик (из Ломбардии)»; а сама Ломбардия — это область на севере Италии, некогда заселенная германским племенем лангобардов (букв, «длиннобородые» или «длинные топоры»). И в какой же точке должно останавливаться толкование?
Читать дальше