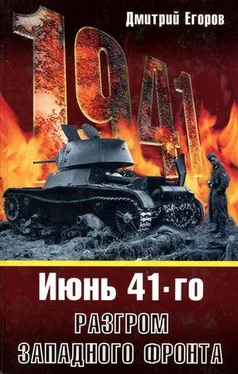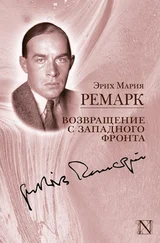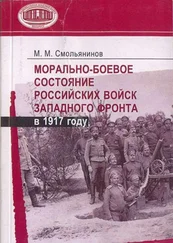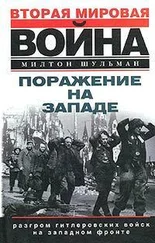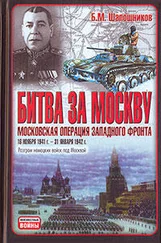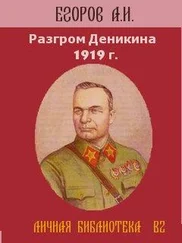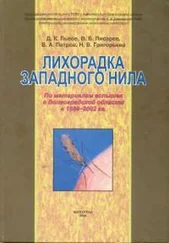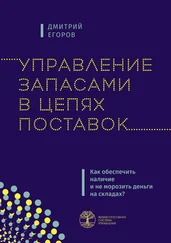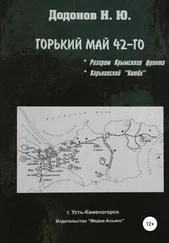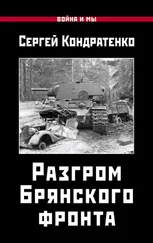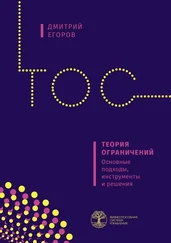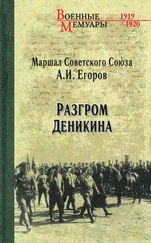Есть еще два свидетельства. Первое я сам записал со слов участника событий в 1990 г. Там есть такие строки, в которые — я по натуре вообще-то тоже скептик — я в те годы поверить не мог. И не поверил, и отмахнулся. Ибо это и сейчас звучит фантастично. Бывший авиатор В. Н. Пономарев — я уже ссылался на него — поведал буквально следующее: «Рассказывали, что за Барановичами, ближе к Минску, немецкие диверсанты, переодетые в нашу офицерскую форму, еще задолго до начала войны подготовили посадочную площадку для своих самолетов. Они наняли местных крестьян и после строительства, в первые дни войны, использовали эту площадку для десантирования» [383] Личный архив Д. Н. Егорова — И. И. Шапиро, запись устного рассказа.
.
Свидетельство второе. В газете 209-й моторизованной дивизии 17-го мехкорпуса служил младший политрук Иван Стаднюк. Став маститым советским писателем, он еще в годы правления Л. И. Брежнева выдал «на-гора» сразу получивший популярность полудокументальный роман «Война», посвященный событиям на Западном фронте. Но не ищите там описания действий 209-й дивизии и всего 17-го корпуса. Вместо этого Стаднюк пошел по своей оригинальной стезе: к шести мехкорпусам Западного округа выдумал седьмой, «ввел» его в состав 10-й армии (теперь их там стало целых три) и изменил таким «художественным» образом историю первых боев на белорусской земле.
И в своей новой книге «Записки сталиниста» он опять открыл читателям лишь скупую дозу фактов, касающихся его дивизии. Более того, он написал, что 17-й мехкорпус принадлежал 10-й армии, то есть совершил еще одно «открытие». Но меня в «записках» заинтересовало одно место. Когда после разгрома группа из 96 военнослужащих 209-й дивизии пробиралась лесами на восток, таща на себе тяжеленный стальной ящик, снятый с автомашины политотдела, в одну из ночей произошла необычная встреча. Стаднюк пишет: «…дозорные задержали на лесной тропе всадника. Как потом выяснилось, он оказался председателем одного из приграничных колхозов. При нем — мешок с крупной суммой денег. Потребовали объяснений и услышали удивительный рассказ, подтвержденный потом другими задержанными колхозными активистами. Суть его поразительна: за несколько дней до начала войны в конторе колхоза появились два командира Красной Армии, приехавшие на мотоцикле. Заявили, что имеют приказ „откупить“ дальний колхозный луг для военных маневров. Тут же оформили документы, заплатили сумму денег, которую потребовало правление артели за потравленное сено, и строго предупредили: к лугу никому не приближаться, он будет оцеплен охраной… А ночью на луг стали садиться транспортные самолеты с советскими опознавательными знаками. Из них (как подсмотрели сельские пастушки) начали выгружаться немецкие танкетки, бочки с горючим, ящики с боеприпасами и группы военных в советской форме…»
Фантастично? Бесспорно. А если вдуматься? Поставьте себя на место западнобелорусского крестьянина «образца» 41-го года. Только два года прошло, как власть Речи Посполитой сменилась на Советскую власть. Не надо думать, что белорусам «под Польшей» жилось сладко, сытно и привольно. За сочинение стихов на родном языке запросто могли вызвать повесткой в гмину — волость — и там в постерунке — полицейском участке — избить до полусмерти. Только за то, что писал по-белорусски о том, что наболело и о чем мечтается. О том, что будет единая Беларусь и не будет постерунков с польскими жандармами [384] Адамчик В. В. Чужая вотчина. Мн., 1989. С. 86.
. Нищета, тяжкие налоги, поборы, произвол властей. Только что и оставалось у селян, так это вера в Христа. Пусть даже православные белорусы были вынуждены ходить «до костелу». А для белорусов-латинян католическая Церковь была своей, родной. Но после сентября 39-го даже и этого не стало. Всех согнали в колхозы, храмы закрыли. Имевшие неосторожность публично журить новые порядки вскоре бесследно исчезали. А в июне 41-го «органы» вообще устроили массовую «зачистку» на будущем ТВД. Тысячи семей «неблагонадежных» поляков в Западной Белоруссии были депортированы: посажены в эшелоны и вывезены за Урал — в Сибирь и Казахстан. Генерал КГБ С. С. Бельченко вспоминал, что и в Белостокской области, где поляки составляли большинство населения, были произведены массовые депортации. Он не сомневался, что во время войны они стреляли бы нам в спину. К 22 июня «зачистки» в Белоруссии закончились, в Литве — еще продолжались. Как писал в своей докладной командир 9-й железнодорожной дивизии НКВД: «К началу дня 22 июня 83 и 84 полки 9 дивизии в связи с чекистскими операциями находились на усиленном варианте охраны и обороны объектов. 58, 60 полки несли службу нормально». 83-й полк стоял в Латвии, 84-й — в Литве. Подразделения 58-го и 60-го — в районах от Белостока и Бреста до Барановичей. Но, как вспоминал бывший командир 5-го отдельного МСП НКВД генерал-майор А. С. Головко, война застала его полк в Барановичах в оперативной командировке. Не затем ли, чтобы закончить «мероприятия»? Те, кому пришлось сражаться с врагом на западной границе, ни разу не усомнились в правомерности этой депортации. С человеческой точки зрения акция была варварством. А с военной? Как всегда, у жизни, как и у медали, две стороны — аверс и реверс. Впрочем, выселение в Азию «неблагонадежных» не избавило полностью армию от ударов с тыла: гитлеровская агентура спровоцировала католическое население на открытые выступления диверсионного характера, осквернив 21 июня множество христианских святынь и пустив слухи, что это сделали бойцы РККА.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу