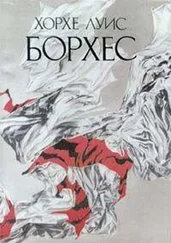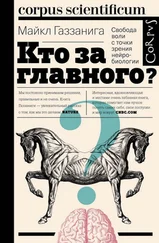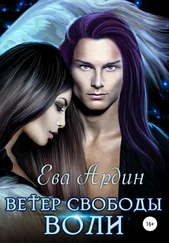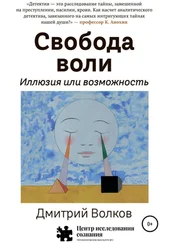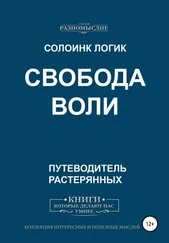Отправной точкой для двух последних систем послужил тезис теолога из Саламанки, доминиканца Бартоломея из Медины (ум. 1581) «сомнительное право не обязывает» (lex dubia non obligat). Важным критерием этих систем, позволяющим судить о допустимости какого-либо поступка, была признана уверенная совесть (в рамках этой логики лучше поступать плохо с уверенностью, что поступаешь хорошо, чем делать и сомневаться: а хорошо ли это?).
Главная критика янсенистов была направлена против т.н. лаксизма, который развился из пробабилизма, доведя положения последнего до абсурда. В своем крайнем выражении эта система гласила, что даже самое незначительное правдоподобие мнения совершенно освобождает от предписываемой правом нравственной обязанности [14] [14] Хотелось бы оговориться, что в казуистике все правовые обязанности рассматривались именно как нравственные. И только в XVI в. испанскими правоведами был поставлен вопрос о том, нарушение каких правовых норм не влечет за собой нравственной ответственности (в частности, не является предметом для исповеди). Этим были заложены основания для теории «чисто уголовного права». См.: MahoneyJ. The Making of Moral Theology. P. 228.
. Эта система неоднократно осуждалась Римом (1665, 1666, 1679), а отдельные произведения лаксистов
были внесены в «Индекс запрещенных книг» еще до появления янсенизма [15] [15] См.: Denzinger HJ., Schurimetzer A. идр. Enchiridion symbolorum. 2022, 2038, 2047, 2049, 2103, 2122, 2132, 2134–35, 2138, 2144, 2148, 2153
. Янсенисты считали Общество Иисуса изобретателем и главным пропагандистом «развращенной морали» в форме лаксизма, о чем со свойственной ему едкостью писал Паскаль в «Письмах к провинциалу». Но вряд ли допустимо говорить о том, что какая-либо система была связана с определенной монашеской конгрегацией или орденом. Среди сторонников лаксизма можно встретить как иезуитов, так и цистерцианца Жозе Карамэля (1606–1682), которого Альфонс Лигуори назвал «князем лаксистов» [16] [16] Ilhnes J.L., Saranyana J.I. Historia teologii. Tłumaczenie z hiszpańskiego. Kraków, 1997. S. 294.
; к пробабилиоризму тяготел ряд теологов-доминиканцев, например Жан Баптист Жоне (1616–1681). Сами иезуиты предпринимали серьезные усилия, чтобы ограничить распространение лаксистских взглядов в Обществе [17] [17] Vereecke L. , 1980. V. 3. P. 133–137. Storia della teologia morale moderna. Rome
.
Противостояние янсенизма и иезуитизма нельзя, как уже говорилось, относить к явлениям только интеллектуального порядка. Теологические проблемы не были в обществе XVI–XVII вв. проблемами чисто умозрительными, но имели совершенно конкретное практическое выражение. Различие позиций янсенизма и иезуитизма проявилось наиболее отчетливо в понимании таинства покаяния и в сфере педагогической практики.
Можно предположить, что молинистическая теория благодати и связанная с ней антропология должны были выражаться в «мягкой» практике исповеди, когда исповедник способен с некоторым пониманием и снисхождением отнестись к слабостям человеческой природы. Именно такой подход к исповеди порицали янсенисты и Паскаль, считая его выражением развращенной морали самих иезуитов. В 6-м письме «Писем к провинциалу» Паскаль помещает саморазоблачающее признание священника-иезуита, что он пытается за счет поблажек приобрести доверие своих духовных чад и перетянуть их таким образом на свою сторону:
«– Увы! – сказал патер, – нашей главной целью должно бы быть: не установлять никаких иных правил, кроме правил Евангелия во всей их строгости; и по нашему образу жизни достаточно видно, что, если мы терпим некоторую распущенность в других, то скорее из снисхождения, чем с намерением. Мы вынуждены к этому. Люди до того теперь испорчены, что мы, не имея возможности привести их к себе, принуждены идти к ним сами; иначе они вовсе оставят нас, они сделаются хуже, они окончательно опустятся. И вот, чтобы удержать их, наши казуисты и рассмотрели те пороки, к которым люди более всего склонны во всех жизненных ситуациях с целью, не нарушая истины, установить правила настолько легкие, что надо быть чересчур требовательным, чтобы не остаться довольным ими; ведь главная задача, которую поставило себе наше Общество для блага религии, это – не отвергать кого бы то ни было, дабы не доводить людей до отчаяния.
Итак, у нас есть правила для людей всякого рода: владельцев духовных мест, священников, монахов, дворян, слуг, богатых, торговых людей, для тех, которые запутались в своих делах, для находящихся в нужде, для женщин набожных и ненабожных, для состоящих в браке, для людей распутных. Одним словом, ничто не ускользнуло от предусмотрительности наших казуистов» [18] [18] ПаскальБ. Письма к провинциалу. Письмо 6. С. 128.
.
Читать дальше