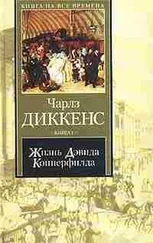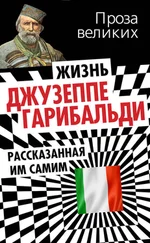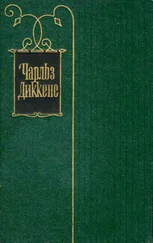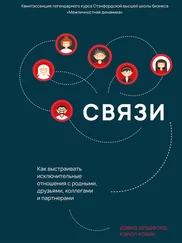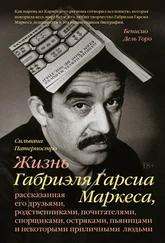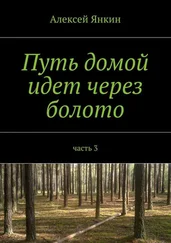Они познакомились в 1939 году. После окончания Военно-воздушной академии Кочетков работал в НИИ ВВС летчиком и помощником ведущего инженера А.И. Никашина. Однажды, когда Никашин уехал в командировку, в комнату, где работал Кочетков, вошел начальник института А.И. Филин в сопровождении трех штатских.
– Вот, товарищ Кочетков, – сказал Филин, – инициативная группа предлагает интересный самолет. Истребитель деревянный, а это очень важно. Я хотел бы, чтобы вы дали заключение как ведущий инженер. Кстати, познакомьтесь…
Штатские представились:
– Лавочкин!
– Горбунов!
– Гудков!
Проект был весьма эскизным. Расчеты очень прикидочными. Но это не помешало Кочеткову разглядеть его перспективность. Так, временно оказавшись на месте Никашина, Кочетков способствовал осуществлению первого проекта Лавочкина и его товарищей.
С тех пор много воды утекло. Пути летчика и конструктора не раз пересекались. Кочетков летал на ЛаГГ-3, на Ла-11, на Ла-150. А вот теперь настала очередь изделия «174», будущего Ла-15.
В одном из первых же вылетов самолет подставил летчику подножку – на взлете открылся фонарь пилотской кабины. Вспорхнул, словно птичка, и лег на правый борт. Положение, хоть караул кричи. Сбавить скорость нельзя – самолет вот-вот упадет. Лететь быстрее тоже нельзя – фонарь деформируется и возможность аварийного сброса в такой ситуации исключена: фонарь может ударить по хвосту, самолет погибнет.
Медленно, на самой малой скорости, Кочетков сделал круг «блинчиком» и посадил машину.
Потом все было хорошо. А под занавес опять неприятности. На большой высоте кабина вдруг наполнилась дымом. Летчик перестал видеть приборы. Пришлось надеть кислородную маску. Куда летел самолет? Неизвестно – видимости не было.
Когда гибель машины казалась неминуемой, летчик установил причину пожара. Конструктор оказался не причем. Загорелся моторчик динамометрической ручки – тот, что движет ленту в самописцах. Летчик выключил испытательную аппаратуру и благополучно приземлился.
Не застал врасплох Кочеткова и третий сюрприз – штопор. Самолету полагалось выйти из него после третьего витка. А истребитель этого сделать не пожелал. Огромный опыт помог Кочеткову выйти из положения, весьма рискованного. В годы войны ему пришлось всерьез заниматься штопором, испытывая американские самолеты «Айркобра».
Эти машины не раз самопроизвольно входили в плоский штопор. Не освободилась от опасного дефекта и «Кингкобра», другая модификация того же самолета.
Откомандированный в Америку, Кочетков убедительно доказал конструкторам, что опасный недостаток не устранен. В одном из полетов на «Кингкобре» Кочетков попал в плоский штопор. До земли летчик добрался на парашюте. Американцы исправили машину. Жизнь многих советских летчиков была спасена.
Кочетков выявил и затаившийся дефект Ла-174. После его устранения самолет запустили в серию.
Но большой славы своему создателю Ла-15 все-таки не принес. Как я уже отмечал, спроектировали одновременно три истребителя: Як-23, Ла-15 и МиГ-15. Яковлев и Лавочкин построили свои самолеты под РД-500, считавшийся «истребительным двигателем». Микоян, не поверив в искусственность такого разделения, взял более мощный «бомбардировочный» РД-45. Всем трем самолетам задали одинаковое вооружение, но, несмотря на то, что и Яковлев и Лавочкин проявили подлинные конструкторские чудеса, конкурировать с мощным МиГом они не смогли. Микоян создал машину, прочную и надежную, как палка, неприхотливую в своих требованиях к летчику. Не зря его прозвали самолетом-солдатом и без промедления поставили на конвейер.
В отличие от МиГ-15, которым оснащалась армия, Ла-15 выпускался «малой серией». Это, конечно, определенная оценка самолета. Но полная ли? Оказалось, нет: только позже стало ясно, что Ла-15 – существенная ступень в истории советской авиации. В процессе его разработки Лавочкин создал те принципиально новые способы проектирования, которые получили права гражданства не только в самолето-, но и в ракетостроении.
Послевоенные самолеты (и разумеется, ракеты) были куда сложнее самолетов довоенного и военного времени. Нафаршированный автоматикой и радиоэлектроникой, способный работать на гораздо большем числе режимов скоростей и высот, самолет требовал от конструктора многого. Чтобы довести и исправить его старыми способами, подправляя и исправляя от полета к полету, нужны были многие годы. В пятидесятые годы во всем мире стали развиваться лабораторно-стендовые испытания. Лавочкин первым из советских конструкторов перешел на новый способ работы. Он решил дополнить свое конструкторское бюро экспериментальной базой.
Читать дальше