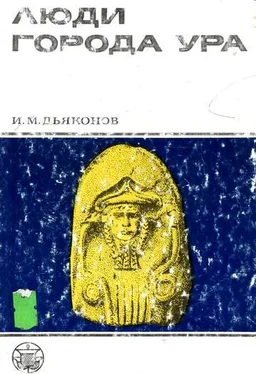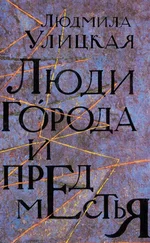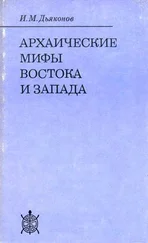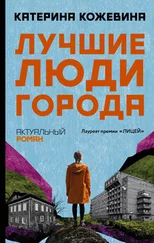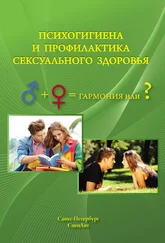Этот муж, Гугалана, «ороситель небес(ного царства)», — видимо, некто иной, как Нергал, первоначально небесное божество, спустившееся в Преисподнюю в качестве мужа Эрешкигаль и тем самым как бы умершее, но победившее Эрешкигаль и, очевидно, этим завоевавшее право уходить из Преисподней в царство небесных богов — Игигов.
Ниншубур (аккад. Илабрат) — не всегда божество женского пола; возможно, иногда это божество представляется евнухом.
По-видимому, она рожает богов смерти или вообще хтонических богов. С. Н. Крамер считает, что Эрешкигаль эквивалентна Нинлиль, возлюбленной Энлиля, которому она родила в Преисподней трех сыновей (в том числе популярного хтонического бога Ниназу); как полагают, эти сыновья были выкупом для спасения из Преисподней Энлиля, самой Нинлиль и их сына, Нинурты, зачатого еще на земле. См.: Afanasieva V . Vom Gleichgewicht der Toten und des Lebenden. — ZA NF 70, II. Hbd., 1980, c. 161–169.
Или — супруги ее?
Ziptum.
В Уре É-NUN — это храм Нингали, содержащий опочивальню с брачным ложем (é-nád-a) бога и богини. Здесь, может быть, речь об опочивальне Думузи и Инаны.
В тексте — «шутами», kur-gar-(r)a. См. перевод текста в кн.: Kramer . Sacred Marriage Rite, с. 128.
Неясно, как совмещался брак Думузи и Инаны как часть коронационного обряда с тем обстоятельством, что правление каждого царя считалось с месяца bará(g)-za(g)-gar-(r)a (I), который, таким образом, и был собственно коронационным месяцем. Позже (в г. Вавилоне по крайней мере) коронационные мистерии, включая удар царю по щеке, подобный полученному Думузи от галла и предположительно являвшийся пережитком ритуального умерщвления (и оживления) потерявшего мужскую силу царя, разыгрывались именно в bará(g)-za(g)-gar-(r)a (в праздник á-ki-ti). Роль царя в этом обряде играл уже при династии Иссина (во всяком случае, по преданию) не подлинный, а «подменный царь» ( šar pūhi[m] ) из преступников или рабов (пережитком этого обряда в Ираке является, может быть, сказка о «халифе на час?»). Возможно, что «подменного царя» после окончания обряда казнили. Может быть, коронационный обряд в столице был хронологически отделен по тем или иным соображениям от аналогичных ритуалов в других городах, в том числе от празднеств службы Инаны в Уруке?
Ср.: «Царь Эрраимитти велел посадить на свой престол садовника Белибни, (но) не в подмену ( а-na NU NÍG.SAG.GU-e = puhê, т. е. не как было задумано): Эрраимитти в своем дворце, обжегшись горячей кашей, умер. Белибни, что сидел на престоле, с него не встал, был утвержден на царство» ( King L. W . Chronicles concerning Early Babylonian Kings. Vol. 2. L., 1907, c. 12–13).
С другой стороны, bará(g)-za(g)-gar-(r)a— очень занятый месяц (жатва, отвод воды в бассейны!), поэтому, быть может, брачная часть обряда переносилась на второй праздник á-ki-ti — на месяц «службы Инаны» (VI). Это тем более вероятно, что брачный обряд царя с жрицей-заместительницей Инаны завершался «назначением судьбы» царя и страны богиней: вспомним, что именно назначению судеб был посвящен следующий месяц — dul-ku(g) (VII).
Damu — вероятно, диалектная форма от слова dumu — «сын»; ср. dumu-zi(d) «истинный или праведный сын».
Пропп В. Я . Русские аграрные праздники. Л., 1963.
Текст доклада автор любезно подарил мне в рукописи.
Kramer S. N . The Sacred Marriage Rite. Bloomington — London, 1969. Это — самый большой и надежный свод материалов, почерпнутых из шумерских клинописных текстов, имеющих отношение к священному браку. К сожалению, в своих интерпретациях С. Н. Крамер излишне склонен к эвгемеризму и модернизации. Важно дополнение к книге Крамера, сделанное Ж. Боттеро для французского издания ( Kramer S. N . Le mariage sacré. P., 1983).
Афанасьева В. К . Гильгамеш и Энкиду. М., 1979, с. 45–55.
Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья. М., 1959, с. 197–201; ср.: Якобсон В. А . Представления о государстве в Древней Месопотамии. — Древний Восток. Вып. 3. Ер., 1978, с. 65–68.
Как уже упоминалось, богослужебные клинописные тексты известны лишь в небольшом числе и, за немногими исключениями, восходят к более поздним временам, чем рассматриваемое нами. Большинство дошедших до нас религиозных клинописных памятников — это тексты, читавшиеся при различных богослужебных, гадательных или заклинательных действиях, но они не дают указаний на ход храмовых обрядов.
Читать дальше