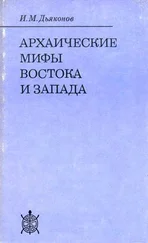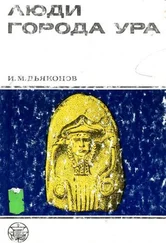ОБ ИСТОРИИ ЗАМЫСЛА «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»
К началу 20-х годов Пушкину было ясно, что всего сделанного до сих пор недостаточно для создания подлинно «европейской» национальной литературы (о литературе «мировой» тогда не думалось). Русской словесности были нужны жанры и произведения, в которых можно было ставить существенные жизненные вопросы и обращаться к мыслящему читателю. Такого читателя никоим образом нельзя было отождествить с теми, кого удовлетворяли любовная лирика, дружеские послания или даже эпос в духе Ариосто. Заметим, что нарисованная Пушкиным в 20-х годах Татьяна, человек думающий и чувствующий, читала много, но только прозу и только по-французски (главным образом романы, французские и переводные). Онегин, как известно, тоже относился к поэзии без интереса, и списки книг, которые он читал (в окончательном тексте и в черновиках их сохранилось несколько), почти не содержат стихов {1} 1 Кроме Парни; но он, вероятно, был лишь орудием «науки страсти нежной». К чтению Онегина не относится список книг в первом черновике строфы XXII главы 7 (VI, 438) — это, вероятно, перечень книг, которых у Онегина не было ; перед этим стихи 3—6: « ... несколько творений С собой в дорогу он возил В сих избранных < ... > томах Пожалуй < ... > Вам знакомых Весьма немного [Вы б] нашли» — тут следует длинный список книг, очевидно знакомых скорее читателю, чем Онегину (в том числе латинских!). Ср. второй и все остальные варианты этой строфы, где уже прямо как онегинское чтение упомянуты только несколько модных романтических новинок, все в прозе (включая и байроновского «Дон Жуана», которого Онегин, конечно, читал во французском прозаическом переложении).
— даже переложения произведений Байрона можно в данном случае отнести к поэзии лишь условно. Не содержат эти списки и никакой русской литературы {2} 2 Она появляется в круге чтения Онегина лишь в 8-й главе (строфа XXXV).
.
Неестественность такого положения была понятна каждому, и Пушкин, работая над романом, дважды счел себя вынужденным оправдывать круг чтения своих героев, один раз в связи с Татьяной, другой — вкладывая такое оправдание в уста Онегина: «Но где мы первые познанья И мысли первые нашли, Где применяем испытанья, Где узнаем судьбу земли — Не в переводах одичалых Не в сочиненьях запоздалых Где русской ум да русской дух Зады твердит и лжет за двух. Поэты наши переводят, А прозы <���нет>», и т. д. (глава 3, строфа XXXII, беловик А; VI, 583—584). Ср. «Альбом Онегина», <7> (VI, 615—616).
С точки зрения Пушкина, русской подлинно художественной прозы вообще не было. Это было его твердое убеждение на протяжении многих лет {3} 3 Помимо указанных отрывков из черновиков «Онегина» (1824—1827) см. наброски «О прозе» (1822) и «О причинах, замедливших ход нашей словесности» (1824), ряд писем Пушкина к Вяземскому и другим и в особенности «Рославлева» (1831).
. Пути развития поэзии и прозы, предлагавшиеся преддекабрьской критикой и литературной практикой, были для Пушкина неприемлемы. Между тем в начале 20-х годов Пушкин серьезно размышлял о прозе и о необходимости романа как главного прозаического жанра {4} 4 «Лета клонят к прозе, — пишет Пушкин П. А. Вяземскому 1 сентября 1822 г. — < ... > Предприими постоянный труд, пиши в тени самовластия, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, — а там что бог даст. Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России» (XIII, 44; ср. письмо ему же от 6 февраля 1823 г. — XIII, 57). Обращаясь по форме к Вяземскому, Пушкин относит это обращение, в сущности, к самому себе (это его, а вовсе не Вяземского, «лета клонят к прозе»! А «постоянный труд» предполагает «большую» прозу — роман). Понимание важности прозы соединяется в пушкинских письмах 20-х годов с явно выраженным нежеланием самому писать художественную прозу, хотя некоторые попытки в этом направлении он уже делал.
.
Можно спорить с мнением Пушкина, указав, что русская проза в 1810-х годах все же была. Однако остается фактом то, что Пушкин не принимал ее всерьез. Почти единственным русским прозаиком он в 1822—1823 гг. считал Карамзина (набросок 1822 г. «О прозе», письмо к Вяземскому от 6 февраля 1823 г., тирада рассказчицы в «Рославлеве» 1831 г.) — конечно, не автора «Бедной Лизы», а историка, выученика Ливия и Тацита. Однако карамзинская «История государства Российского» не давала еще образца прозы, которая бы обращалась с понятиями, свойственными современности.
Читать дальше