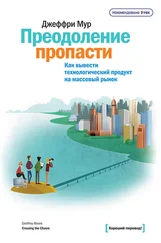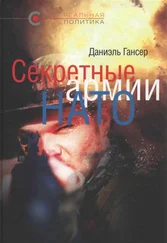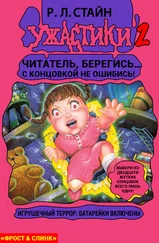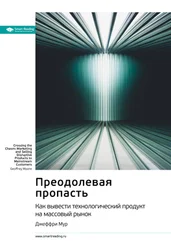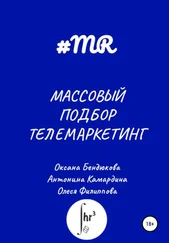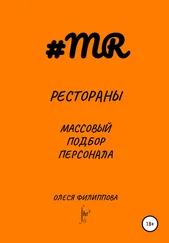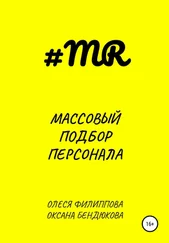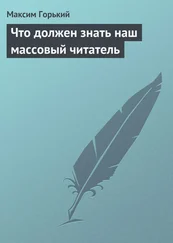Местным изобретением было коллективное подписание протоколов за столом под музыку. Заключенных, заранее подвергнутых внутрикамерной обработке (специально отобранные и подкармливаемые арестанты уговаривали своих товарищей по заключению подписать признательные показания), человек по 15–20 приводили из тесных и темных камер в просторное помещение, сажали за стол, на который иногда ставили водку и закуску, и там уговаривали «в интересах советской власти» подписать протокол. Во многих случаях этот метод срабатывал. Тех, кто сопротивлялся, отправляли в карцер или избивали в укромном месте. В конце концов им вписывали в альбомную справку: «изобличается показаниями таких-то и таких-то» и все равно отправляли на особую тройку. «Из Соликамской тюрьмы освобождать никого нельзя», — заявил как-то Шейнкман и на самом деле не освобождал [235] Выписка из протокола № 4 закрытого партсобрания партколлектива УГБ Ворошиловского РО НКВД с участием комсомольцев. 11.02.1939 г. // ГОПАПО. Ф. 641/1. On. 1. Д. 16110. Л. 82.
.
Начиная с октября 1937 г., оперативные работники НКВД втягиваются в бесконечный процесс фабрикации групповых дел на десятки, а в некоторых случаях и на сотни человек, составляют справки, необходимые для подготовки новых арестов, допросов, из-под палки пишут фиктивные протоколы, оформляют дела на тройку. Завершается один цикл, тут же начинается другой. Ими движет конвейер, очень похожий на тот, который они сами устраивают подследственным. Сойти с него страшно. «Подать рапорт я боялся, — признавался сержант госбезопасности Окулов, — если меня уволят, то сразу же арестуют и отправят на Тройку» [236] Рапорт особоуполномоченному УНКВД по Пермской области лейтенанту государственной безопасности Мешкову от сержанта госбезопасности Окулова С. Н. // ГОПАПО. Ф. 641/1. On. 1. Д. 9108. Т. 3. Л. 199.
.
И тогда же к ним приходит убеждение, что они исполняют важную, хотя и грязную, неблагодарную работу по истреблению вражеского антисоветского элемента. После завершения массовых операций рядовые сотрудники органов будут повторять на разные голоса:
«Пусть дурными методами, но мы действовали правильно. Мы вели огонь по правильным целям: по кулакам, шпионам, церковникам. И не наша вина, что вредители нам сбивали прицел» [237] Мочалов — Викторову. Г. Соликамск. 1.08.1938 г.//ГОПАПО.Ф. 641/1. On. 1. Д. 15357. Т. 2. Л. 130.
.
Некоторые добавляли: нам мешали начальники, которые не давали «…возможности уличить врага действительными фактами его контрреволюционной шпионской деятельности» [238] Мочалов — Викторову. Г. Соликамск. 1.08.1938 г.//ГОПАПО.Ф. 641/1. On. 1. Д. 15357. Т. 2. Л. 130.
.
Конечно, в данном случае мы имеем дело с коллективной формой психологической защиты. Ибо согласиться с тем, что ты убивал, точнее, посылал на смерть десятки или сотни ни в чем не повинных людей — все равно, по собственной воле или по безволию, — равносильно признанию себя бессердечным и бессовестным убийцей, низким и грязным человеком. «О том, что за подложными протоколами стоит живой человек — и кроме того, его родственники, семья и дети, я не думал никогда. Я думал, что наша работа направлена на пользу Советской власти», — оправдывался на суде оперативник Пермского райотдела НКВД Ветошкин [239] Протокол судебного заседания 21–23 августа 1939 г. в Военном Трибунале Московского военного округа войск НКВД // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 6857. Т. 6. Л. 164.
. И когда участников массовых операций переместили из служебных кабинетов в следственные камеры, они, как будто сговорившись, с трудом припоминали один-два эпизода: было дело, тогда-то сфальсифицировали протокол допроса, или поставили подпись на чужом документе — и все, тут же добавляя: такая была обстановка, но нам это все не нравилось, мы такому обороту дел противились.
Можно предположить, что поведением людей, руководивших операцией в Свердловском УНКВД, управлял мотивационный комплекс, в котором доминировали две установки: ставка на карьеру и страх перед репрессиями.
И Дмитриев, и его помощники в начале 1934 г. — это чиновники средней руки в ведомстве Г. Г. Ягоды. Путь наверх им преграждали ветераны ВЧК — ОГПУ, занимавшие ключевые должности в аппарате НКВД. И вот с новым шефом — Н. И. Ежовым у этих людей появился шанс прорваться, подняться по служебной лестнице, войти в круг не только ведомственной, но и политической элиты. Они его с удовольствием использовали. Иначе не объяснить их маниакальной тяги к публичности: к выступлениям на пленумах обкома, в газетных статьях, выдвижению в депутаты. Верховный Совет в 1937–1936 гг. — это витрина новой советской демократии, собрание знатных людей сталинской эпохи. Д. М. Дмитриев становится союзным депутатом. Н. Я. Боярский готовится в депутаты республиканские. Кажется, эти люди искренне верили тому, что пишут в газетах о всенародном одобрении их кровавой работы.
Читать дальше