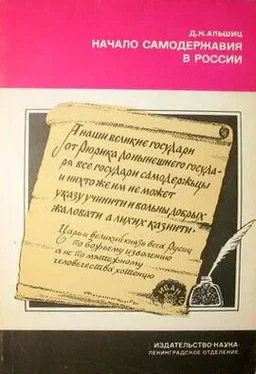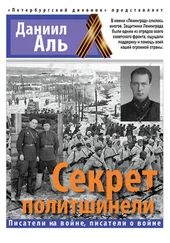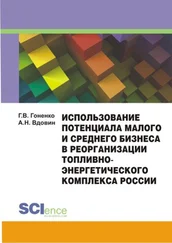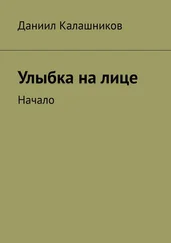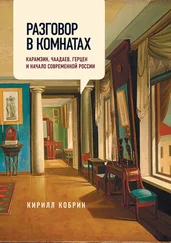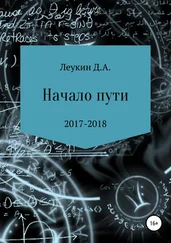Разрядная книга дает лаконичное, но яркое описание этого события: «… и крымский царь посады на Москве зажег, и от того огня грех ради наших оба городы выгорели, не осталось ни единые храмины, а горела всего три часа. А затхнулся в городе боярин Иван Дмитриевич Вельской, а был он ранен, да боярин Михайло Иванович Воронова (сын) Волынской и дворян много и народу безчисленно. А затхнулся от пожарного зною. И царь крымской пошел от Москвы в субботу… А государь был и царевич в ту пору в Ростове. И прииде государь к Москве, и видя ту великую беду, излил многие слезы и повеле град прятати (хоронить, убирать разрушения. — Д. А.) и мертвых людей…». Так бывало редко. Обычно русские воины давали врагам решительный отпор. Сохранился великолепный, поэтически звучащий отклик на обстановку непрерывной боевой обороны русской земли. В «Казанской истории», написанной в честь взятия войсками Ивана Грозного Казани, читаем: «Воеводы же московские, где убо ощутивше варвар, и на кою украину пришедших и тако там собравшихся, прогоняху их и, как мышей, давяху и побиваху. То бо есть от века… дело варварское и ремество — кормиться войною». [15] Казанская история. М.; Л., 1954. С. 176.
Из Официальной разрядной книги мы впервые узнаем и о том, как в Московской Руси награждались за одержанные победы воины и военачальники. Сначала присланный от царя боярин говорил: «Государь царь и великий князь велел вам поклониться и велел вас о здоровье спросить». Затем следовали награды. Многих награждали монетами различного достоинства — «золотой притугальский» (португальский), «золотой корабленный» (т. е. с изображением кораблика), «золотой московский» и другими. Размер награды зависел не столько от конкретных боевых заслуг, сколько от служебного положения данного лица — «по человеку смотря». Награды вручались непосредственно в военном стане, возле шатра самого царя или присланного от царя боярина. Кроме того, составлялась «роспись, что дать боярам и воеводам и головам государева жалования за службу». Главноначальствующим в доходе воеводам давали за победу высшую награду — «из большие казны по шубе да по кубку». Именно такая шуба и называлась — «с царского плеча». Другим в зависимости от служилого достоинства давались шубы ценой в 100, 60, 50, 35, 20 и 15 рублей, серебряные кубки, ковши, чарки.
В Разрядной книге находим и редкую запись, которая, надо полагать, не прошла бы мимо внимания пушкинистов, изучающих родословную поэта, если бы они заинтересовались этим материалом: «Григорию Григорьевичу сыну Сулейше Пушкину — шуба 20 рублев, да чарка 2 гривенки, да ему ж пять рублев за рану».
Торжества награждений да и царские пиры в честь тех или иных побед нередко омрачались ожесточенными местническими распрями. Картина печально знаменитого местничества и решительная борьба против него Ивана Грозного впервые предстает перед нами в таком полном виде на страницах Разрядной книги.
«Поруха государеву делу» от местничества была огромной. Тяжелые поражения, затянувшиеся осады городов, задержка снабжения войск — все это зачастую являлось прямым следствием местнических неурядиц. Правительство и царь вынуждены были без конца копаться в родословных, руководствоваться ими при назначениях и разбирать местнические споры. Для разбора этих дел во время походов при войске находился специальный дьяк «у челобитных». В ряде случаев из Москвы приходилось запрашивать родословные справки.
Иван Грозный ограничивал местничество в законодательном порядке и сурово наказывал злостных «местников». Многие документы местнических дел передают живой язык их авторов. То и дело раздаются грозные окрики царя Ивана Васильевича против заместничав-шихся военачальников, вроде таких: «местничаешься бездельем!», «то князь Захарей плутует!», «чтоб впредь не врал!», «и он бы впредь не дуровал!». На непокорных сыпались наказания: «Бить батоги и списки (вверенного ему полка. — Д. А.) отдать!», — приказывал царь, и родовитого боярина секли специальными тонкими палками — батогами. Бывало и более страшное наказание: «Будет поруха государеву делу, и ему от государя быть казнену смертью!». Разрядная книга зарегистрировала даже факт ссылки в Сибирь не пожелавшего подчиниться ни кнуту, ни тюрьме упрямого местника князя Петра Барятинского. Похоже, что перед нами имя первого ссыльнопоселенца Сибири.
После смерти Грозного в расчете на мягкость царя Федора Ивановича бояре и воеводы открыли энергичную местническую кампанию. Ни один разряд не проходил без самых настоящих воеводских «стачек». Однако эти расчеты не оправдались. Царь Федор, вернее его именем Борис Годунов, быстро дал почувствовать распоясавшимся местникам достаточно твердую руку. Отказывающихся «брать списки» князей тотчас сажали в тюрьму и держали, пока не одумаются. В царствование Бориса строгости еще больше усилились. Князя Федора Романова (отца будущего царя Михаила, основателя династии Романовых) царь Борис приказал сковать и вывезти к месту службы на телеге.
Читать дальше