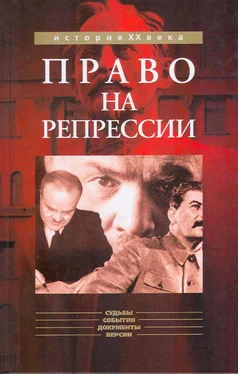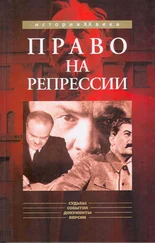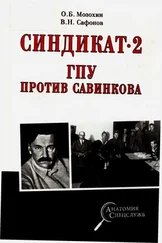Имеющиеся в следственном моем деле обличающие меня показания не только нелепые, но содержат по ряду моментов клевету на ЦК ВКП(б) и СНК, так как принятые не по моей инициативе и без моего участия правильные решения ЦК ВКП(б) и СНК изображаются вредительскими актами контрреволюционной организации, проведенными по моему предложению.
Наиболее ярко это видно из показаний о моем якобы вредительстве в колхозном строительстве, выразившемся в том, что я пропагандировал на краевых конференциях и пленумах крайкома ВКП(б) создание колхозов-гигантов. Все эти выступления мои стенографировали, и [они] опубликованы, но в обвинении не приводится ни один конкретный факт и ни одна цитата, и это никто никогда доказать не может, так как за все время своей работы в Сибири я решительно и беспощадно проводил линию партии. Колхозы в Западной Сибири были крепкими и по сравнению с другими зерновыми районами Союза лучшими колхозами...
...Ушакову, который тогда вел мое дело, нужно было показать, что выбитые из меня ложные признания перекрываются показаниями в Сибири, и мои показания по телефону передавались в Новосибирск.
С откровенным цинизмом это делалось, и при мне лейтенант Прокофьев заказывал телефон с Новосибирском.
Теперь я перехожу к самой позорной странице своей жизни и к моей действительно тяжкой вине перед партией и перед Вами. Это о моих признаниях в контрреволюционной деятельности...
Дело обстояло так: не выдержав истязаний, которые применяли ко мне Ушаков и Николаев, особенно первый, который ловко пользовался тем, что у меня после перелома еще плохо заросли позвоночники, и причинял мне невыносимую боль...
...Дал я эти ложные показания, когда следователь меня 16 часов допрашивал, довел до потери сознания и когда он поставил ультимативно вопрос, что выбирай между двумя ручками (пером и ручкой резиновой плетки), я, считая, что в новую тюрьму меня привезли для расстрела, снова проявил величайшее малодушие и дал клеветнические показания. Мне тогда было все равно, какое на себя принять преступление, лишь бы скорее расстреляли, а подвергаться снова избиениям... мне не было сил...
...Я Вас прошу и умоляю поручить доследовать мое дело, и это не ради того, чтобы меня щадили, а ради того, чтобы разоблачить гнусную провокацию, которая, как змея, опутала многих людей, в частности и из-за моего малодушия и преступной клеветы. Вам и партии я никогда не изменял. Я знаю, что погибаю из-за гнусной, подлой работы врагов партии и народа, которые создали провокацию против меня. Моей мечтой было и остается желание умереть за партию, за Вас».
1 февраля 1940 г. Эйхе был предан суду. В суде Эйхе виновным себя не признал и, как это записано в протоколе, заявил: «Во всех якобы моих показаниях нет ни одной названной мною буквы, за исключением подписей внизу протоколов, которые подписаны вынужденно. Показания даны под давлением следователя, который с самого начала моего ареста начал меня избивать. После этого я и начал писать всякую чушь. Кроме того, следователи использовали мое болезненное состояние (перелом спины) и играли на ней, как на клавишах. Это невыносимая пытка, которую я не выдержал. Главное для меня — это сказать суду, партии и Сталину о том, что я не виновен. Никогда участником заговора не был. Я умру так же с верой в правильность политики партии, как верил в нее на протяжении всей своей работы».
Военная коллегия Верховного суда СССР (в составе Ульриха, Климина и Суслина) выслушала заявление Эйхе и приговорила его к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение спустя два дня — 4 февраля 1940 г. В настоящее время Эйхе реабилитирован.
Следует отметить, что И. В. Сталину и некоторым членам Политбюро систематически направлялись протоколы допросов арестованных, по показаниям которых проходили работавшие еще члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, секретари ЦК нацкомпартий, крайкомов и обкомов.
С разрешения партийных инстанций арестованных избивали и вымогали у них показания на других лиц. На основании этих показаний без какой-либо их проверки производили новые массовые аресты.
Человек 100-150 сгоняли в одну комнату, всех ставили лицом к стене и по нескольку дней не разрешали садиться и спать, до тех пор пока арестованные не давали показаний. В комнате устанавливали стол с письменными принадлежностями. Желающие давать показания писали сами, после чего им разрешалось спать.
Среди следователей шло соревнование, кто больше «расколет». Считалось позорным, если у следователя нет ни одного признания за день. На то, каким способом это достигается, закрывали глаза. Так, сотрудник Витебского городского отдела НКВД Коновалов вызывал арестованных и под предлогом сличения подписи арестованного с его подписью в паспорте отбирал у них подписи, сделанные на чистом листе бумаги, а затем вписывал туда показания, какие сам находил нужными.
Читать дальше