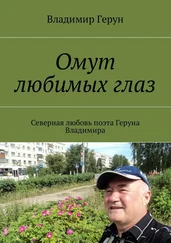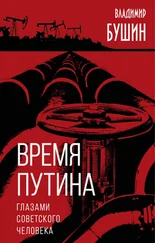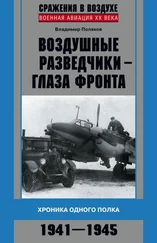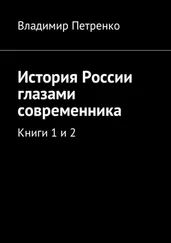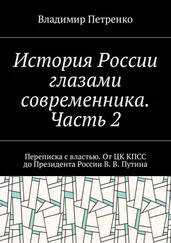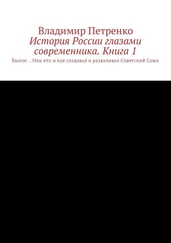В своих ранних работах Л. А. Дмитриев полагал, что «Сказание» было составлено в 10-х годах XV века. См. подробнее: Дмитриев Л. А. О датировке… С. 190–199. Впоследствии исследователь несколько расширил собственную же датировку (см.: Он же. Куликовская битва в литературных памятниках Древней Руси // РЛ. 1980. № 3. С. 21–23; Он же. Литературная история… С. 341–342).
Кстати, А. А. Шахматов также полагал, что составление «Сказания» следует относить к первой четверти XVI века. См.: Шахматов А. А. О тзыв… С. 117.
В. С. Мингалев, исходя из гипотезы о том, что в основу Летоп., которую он считал первоначальной, положена летописная повесть (HIV‑CI), полагал, что «Сказание» не могло быть составлено до 40-х годов XV века. Верхней же границей датировки памятника исследователь считал 1547–1548 годы, к которым относится появление «Большой челобитной» Ивана Пересветова. Дело в том, что в этом произведении И. С. Пересветов упоминает своих «пращуров и прадедов», героев Куликовской битвы — Пересвета и Ослябю; это дает повод исследователю, вслед за А. А. Зиминым, предполагать знакомство автора челобитной со «Сказанием о Мамаевом побоище» (см.: Сочинения И. Пересветова. М.; Л., 1956. C.236–237. Ср.: Зимин А. А. И . С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли сер. XVI в. М., 1958. С. 270–271, 285, 301–311). Окончательная датировка дается В. С. Мингалевым «на основе анализа исторических реалий, встречающихся в «Сказании»». См. подр.: Мингалев В. С. «Сказание о Мамаевом побоище»… С. 12–13.
М. А. Салмина, не разделяя мнение В. С. Мингалева о первоначальности Летоп., высказала мнение о близости «Сказания» Осн. редакции и летописной повести «и в сюжетной линии, и в композиционном повествовании», и текстуально. Поскольку появление летописной повести о Куликовской битве связано с составлением общего протографа HIV и CI, к которым и восходят все ее чтения, то и «Сказание» не могло бы возникнуть раньше этого времени — середины XV века. (см. подробнее: Салмина М. А. К вопросу о датировке… С. 124). Ю. К. Бегунов также полагал, что «Сказание» составлено в этот промежуток времени, однако по другим основаниям. Исследователь, изучив характер использования в «Сказании» одного из его источников — Жития Александра Невского, пришел к выводу, что автор «Сказания» пользовался Житием второй редакции, «сложившейся одновременно» с летописным «сводом 1448 года»; верхнюю границу датировки Ю. К. Бегунов также связывал с историей ВП (см.: Бегунов Ю. К. О б исторической основе… С. 484–485).
В. А. Кучкин исходил из факта упоминания в «Сказании» Константино-Еленинских ворот Московского Кремля. До 1476 года ворота назывались Тимофеевскими, а новое их название впервые появляется в источниках лишь с 1490 года. Исследователь связал переименование ворот со строительством новых кремлевских стен, происходившим в 1485 году. По его мнению, именно после этого времени и могло появиться «Сказание». Помимо всего прочего, предложенная В. А. Кучкиным датировка в принципе не противоречит датировке М. А. Салминой, строящейся на совершенно иных основаниях. Последнее делает выводы B.А. Кучкина еще более убедительными. См.: Кучкин В. А. П обеда на Куликовом поле… C.7; Он же. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы… С. 109–114.
В одной из работ Б. М. Клосс датировал составление памятника 1513–1518 годами (см. подробнее: Клосс Б. М. О б авторе и времени создания «Сказания о Мамаевом побоище»… С. 259–262), позже он пересмотрел свою точку зрения, предложив датировать «Сказание» 1521 годом (см.: Он же. Избранные труды. Т. 2. М., 1998. С. 333–345).
См., напр.: Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. З олотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950. С. 290; Тихомиров М. Н. Д ревняя Москва… С. 203.
Мингалев В. С. «Сказания о Мамаевом побоище»… С. 15. В. А. Кучкин предложил при реконструкции событий 1380 года опираться в первую очередь на рассказ Рогожского летописца, содержащий краткую летописную повесть, а также на ряд ранних летописных текстов и «Задонщину». См.: Кучкин В. А. П обеда на Куликовом поле… С. 6–8; Он же. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский… С. 114.
В этой связи реконструкция того, как воспринимал монголо-татар автор памятника, сталкивается с рядом существенных трудностей. Главная из них связана с интерпретацией тех мест произведения, которые имеют непосредственную близость к тексту «Слова». В случае принятия гипотезы о первичности «Задонщины» (это предположение исследователей часто подвергается вполне обоснованной критике) перед исследователем встает необходимость проведения специального текстологического анализа, призванного подтвердить избранную им версию литературной истории этих произведений. Взгляд же на «Задонщину» как оригинальный, первичный по отношению к «Слову» памятник вовсе не исключает, а, наоборот, предполагает объяснение тех немаловажных для интересующей нас проблемы обстоятельств, в силу которых автор «Слова» смог перенести характеристики татар на половцев, принадлежащие перу составителя «Задонщины». Если же встать на позиции тех ученых (а их большинство, и их мнения представляются более аргументированными), которые предполагают первичность «Слова», то возникает опасность переноса того, как воспринимал половцев автор «Слова о полку Игореве» на авторское восприятие татар в «Задонщине». В качестве разрешения сформулированных выше противоречий полагаю допустимым опираться на разделяемую большинством исследователей точку зрения о вторичности чтений «Задонщины» по отношению к «Слову». В силу указанных сложностей, связанных с реконструкцией восприятия монголо-татар в «Задонщине», полагаю также возможным исходить из предположения об осознанном характере заимствований автором произведения о Куликовской битве оценок и описаний «поганых». Тем более что, как показал А. А. Горский, «характерной чертой заимствований в «Задонщину» из «Слова о полку Игореве»» являлся прием «обратного параллелизма» (термин А. А. Горского. — В. Р .), состоящий «в перенесении на татар того, что относилось к русским» в «Слове». См.: Горский А. А. И сторико-поэтическая концепция «Задонщины»… С. 98.
Читать дальше