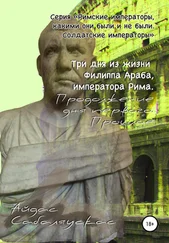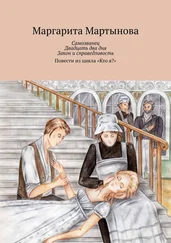Пожалуй, в целом Хониат все-таки любуется Мануилом, его рыцарственностью, его самоотверженностью, хотя и не молчит о его просчетах и неудачах. Напротив, Андроника I историк ненавидит: Андроник для него мерзкий плешивец, кровожадный тиран, лицедей и развратник. Но его отвага и находчивость, его скромность не скрыты от читателя, и ряду мероприятий Андроника Хониат в полной мере отдает должное, даже рисуя идиллическую картину благоденствия, будто бы наступившего в Византии в короткий период царствования узурпатора, — картину, думается, продиктованную не действительными фактами, а своеобразно понятым принципом объективности, необходимостью отыскать позитивный противовес мерзостям ненавистного тирана.
Можно было бы, пожалуй, сказать, что общественные и нравственные идеалы Хониата в очень большой степени порождены его трагическим восприятием действительности, ощущением надвигающейся катастрофы и затем, в последних частях «Истории», переживанием катастрофы совершившейся. Ожидание катастрофы пронизывает и образную систему «Истории».
Мы говорили уже о том, что средневековый художник мыслит и оперирует готовыми стереотипами — формулами и образами, — восходящими к литературной традиции: к Библии, к сочинениям отцов церкви, к гомеровским поэмам. Но стереотип выражения не означает или, во всяком случае, далеко не всегда означает отсутствие живого чувства. Напротив, готовая формула, рождая у образованного читателя определенные аллюзии, способна создавать особую эмоциональную напряженность: недаром Хониат, переходя к падению Константинополя, резко увеличивает число библейских формул. Он поступает так не потому, что неспособен отлить свои чувства в свежие формы, но потому, что библейский пафос, порождающий дополнительные ассоциации, кажется ему (и, видимо, его современникам) более соответствующим драматизму ситуации, нежели будничная, лишенная риторического накала речь.
Стереотип, однако, сочетается в художественной манере Хониата с конкретно-индивидуальными характеристиками, и подобное сочетание обобщенно-деконкретизированной формулы с неповторимым своеобразием образа может дать неожиданный эффект. На страницах «Истории» проходит длинная серия константинопольских императоров, и каждый из них — рыцарственный Мануил, кровожадный лицемер Андроник, беспомощный юноша Алексей II, обжора Исаак Ангел, ничтожный хвастун Алексей III — не похож на других, наделен своими, ему одному присущими свойствами. Образы индивидуальны и все-таки не только индивидуальны. Они подчинены своего рода стилевой симметрии. О каждом или почти о каждом государе Хониат сообщает: наслаждался покоем на Пропонтиде, развлекался зрелищами ипподрома. При вступлении на престол Мануила I, Исаака II и Алексея III дурные предзнаменования связаны со странным поведением коня. Поступки Алексея III словно повторяют действия Андроника: оба посмеивались над угрозой извне и занимались пустяками в момент наивысшей внешней опасности; оба собирали для обороны столицы корабли и разрушали жилища поблизости от городских стен; оба бежали из Константинополя с любовницами, и если Андроник прямо назван «поваром» (в связи с казнью Мамала, сожженного по его приказу на костре), то об Алексее III специально говорится, что он не был «куховаром человеков». А параллелизм в характеристиках Андроника I и Исаака II выражается, в частности, в том, что обоим государям приписано разрушение одного и того же Манганского дворца!
Что достигается этой итеративностью, ощущаемой особенно отчетливо на фоне индивидуализированных и конкретных образов? С помощью такого приема Хониат (по всей видимости, неосознанно) создает ощущение повторяемости в действиях императоров, ощущение известной закономерности их акций. Сколь бы разными они ни были, в их поступках заключалось нечто общее, заключался, если так можно выразиться, известный стереотип поведения. Хониат не формулирует эту мысль с научной определенностью, но он внушает ее читателю. Он обращается не к разуму, а к эмоциональному восприятию — и средством такого обращения служит эффективно использованная система клише.
И еще один пример итеративности. Говоря об Исааке Ангеле, Хониат постоянно возвращается к теме обжорства. Конрада Монферратского он заставляет упрекнуть государя в том, что тот не уделяет войне такого рвения, как пиршествам, — а Исаак, покраснев, отвечает, что всему свое время — и воевать, и обедать. Этот разговор происходит перед битвой с мятежным Алексеем Враном, а после подавления мятежа Исаак устраивает обильную трапезу, причем Хониат замечает, что ворота дворца были распахнуты и каждый мог зайти и посмотреть на пирующего царя, который жадно глотал пищу и подвигал руки на войну против поданых ему блюд. Когда Исаак вернул из монастыря незаконного сына Мануила I, он прежде всего посадил его с собою за стол и принялся потчевать. Во время обедов Исаака везде громоздились горы сластей, рыб, хлебов, дичи и разливалось море вина. Настойчивое повторение темы благодушно радостного гурманства создает отчетливый фон для конструирования образа, фон, который и сам по себе рождает ощущение фарса, но который тем более комедиен, что противостоит другому стереотипу, пронизывающему (уже с трагедийной окраской) историю Андроника, — теме поджаривания и пожирания людей, повторяющимся образам челюстей и пасти.
Читать дальше