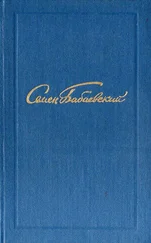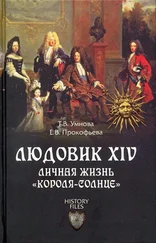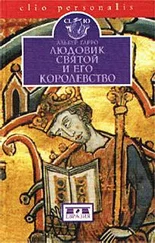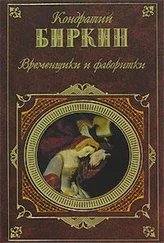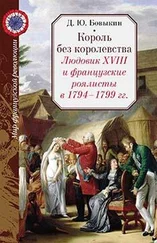Маркиза немало сделала для людей искусства, обеспечила талантам комфортные условия существования, стимулировала их творческие усилия. Но была и оборотная сторона медали: невероятные траты на свои прихоти. Один только Бельвю стоил 3 млн ливров, а вообще на нужды фаворитки израсходовали 36 924 140 ливров [22] 22 NICOLLE J. Madam Pompadour et le societe de son temps. P. 1989, p. 181.
. Обыватели не знали этих цифр, но роскошь била в глаза тем, кто не всегда имел и скудный достаток. Народная ненависть постоянно сопровождала возлюбленную короля и прорывалась в многочисленных пуассонадах (по девичьей фамилии Помпадур — Пуассон) — стишках и эпиграммах, часто неспристойного содержания.
На таком неблагоприятном общественном фоне в Париже в 1750 г. разыгрались волнения, связанные с "похищением детей". При всем зловещем характере обстоятельств это событие было лишь одним в длинной череде ему подобных в последней трети XVII- первой половине XVIII века. Время от времени в столице проводились мероприятия по задержанию бродяг с целью отправки в колонии, где насчитывалось мало жителей по сравнению с быстро растущим населением заморских территорий Англии. Но в абсолютистском полицейском государстве жертвами нередко становились не взрослые молодые люди, прибывшие со всей Франции и склонные к криминалу, а подростки и дети из парижских семей. Рвение полицейских подпитывалось премиями, обещанными за каждого задержанного. Поборником жесткой линии была креатура мадам Помпадур, глава столичной полиции Беррье, не делавший различий между игравшей на улицах парижской ребятней и настоящими бродягами. В соответствии с ордонансом конца 1749 г. в ближайшие месяцы было захвачено несколько сот подростков. Возникшие в Париже напряженность и страх вылились в мае 1750 г. в беспорядки, приведшие к гибели людей. Жертвами возмущенной толпы стали, прежде всего, ретивые полицейские агенты, забитые до смерти палками и кулаками.
Если выступления в столице непосредственно не угрожали королевской власти, то фантастические россказни, связанные с "похищением детей" и отражавшие представления и уровень информированности простонародья, сильно вредили имиджу монарха. Захват мальчиков объясняли необходимостью готовить из их крови ванны для лечения от проказы какого-то принца, либо короля, иностранного или французского. В народной традиции проказа рассматривалась не столько как недуг физический, сколько болезнь души- результат греховной жизни. А проявлялась она, среди прочего, в постоянной меланхолии. Таким образом, вырисовывался портрет человека, очень похожего на Людовика XV, которого уже начали величать новым Иродом [23] 23 FARGET A. et REVEL J. Logiques de la foule: L'aflaire des enlevements d'enfants. P. 1988, p. 115-120, 134, 137.
. За пять лет, по крайней мере, у части населения отношение к нему изменилось от любви до ненависти.
На "потускнении" образа венценосца сказались как особенности поведения Людовика XV, так и некоторые долговременные сдвиги в стиле жизни французских монархов вообще. Короли не только отказались от длительных поездок по стране, предоставлявших подданным больше возможностей их лицезреть, но и крайне редко бывали в Париже. Что же касается Людовика XV, то он сократил до минимума даже число приемов в Версале: раз в неделю. Его скрытность, стремление работать одному расходились с принятой во Франции публичностью жизни короля, в том числе, семейной и создавали благоприятную почву для разного рода вымыслов. Манкирование отдельными аспектами церемониала, возвышавшего королевскую власть в глазах Французов, а еще больше отказ государя от миссии чудотворца ослабили духовную связь монархии с народом [24] 24 VIGUERIE J. de. Le roi et le "public": L'exemple de Louis XV.- Revue historique, 1987, N3.
.
Непопулярность Людовика XV увеличилась по ходу развития событий, которые не будет преувеличением назвать политическим кризисом 50-х годов. В отличие от времен Флери, король играл ведущую роль. При этом он опирался на министров, наиболее сильным из которых являлся генеральный контролер финансов Машо. Монарх и Машо ввели новый налог — двадцатину, принципы взимания которой были революционными: в равной мере подлежали обложению все сословия и все территории страны. Недовольных было много; особенно возмущалось духовенство, прежде вносившее лишь добровольный дар королю. Из-за его неуступчивости, а также под давлением придворной партии "набожных", поддержанной королевской семьей, Людовик отступил. 23 декабря 1751 г. священнослужители освобождались от уплаты двадцатины.
Читать дальше