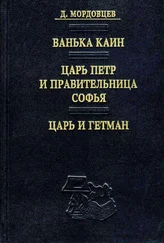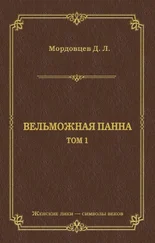- Ну, ничего, ничего, моя "Пахонина" бедненькая, - шептал отец, гладя черную головку дочери. - Поплачь немножко... А ты давно видела свою "курносенькую беляночку"?
- Какую, папа? - спросила девушка, продолжая сидеть на коленях у отца и смутно чувствуя, что это первое единственное кресло, сидя на котором она в первый раз почувствовала что-то похожее на облегчение.
- А "Белая березонька?" - отвечал он, улыбаясь.
- А... Настя... Я давно не видела ее. Забыла...
- Как забыла, дурочка?
- Я все забыла, папа. - И девушка снова заплакала.
- Ну, ладно... А все бы сходила к своей "Белой березоньке", поразмыкалась бы. Да?
- Да, схожу, папа.
- Ну, и ладно.
"Курносенькая беляночка" тоже ждала кого-то из армии... Она не знала только, что этот кто-то тоже рвался увидеть кого-то, да опять бы в "сенцах" встретиться, как и тогда.
...Ночь была летняя, светлая. Сирень так хорошо пахла. В соседнем саду так без толку неугомонно почему-то щелкал соловей - верно, просто по глупости щелкал и вовсе не хорошо щелкал, как и все соловьи; но всем почему-то казалось, что он хорошо щелкает, по душе и по нервам щелкает, и все слушали его, украдкой поглядывая, молодые сержантики на молодых барышень, молодые барышни, с величайшей осторожностью, на молодых сержантиков. Ну, одним словом, пустяки: молодая глупость и молодое счастье, счастье неведения, но такое хорошее это глупое молодое счастье... И соловей глупо щелкает, и сирень глупо пахнет, а хорошо всем. Говорили молодые сержантики о том, что скоро война с турками будет, что их, вероятно, пошлют на войну. Молодые сержантики говорили, а у молодых барышень сердца немножко сжимались, ну, понятно, по глупости...
Потом молодые сержантики стали прощаться с молодыми барышнями, уходя из палисадника. Всем нужно было проходить темными "сенцами", вот тут-то и являются эти "сенцы". Ох, уж эти темные "сенцы"! Выходя из палисадника и вступая в сенцы, один молодой сержантик почему-то, конечно, по глупости, все держался около "курносенькой беляночки", а "беляночка" почему-то, опять тоже по глупости, незаметно - будто бы незаметно! - держалась около этого черномазого сержантика... В "сенцах" они нечаянно еще более приблизились друг к другу, потому темно, ничего не видать, и ах! Нечаянно, конечно, нечаянно, ненароком, руки их встретились в темноте и нечаянно, да так-то быстро, судорожно пожали одна другую, и только. Ведь глупость это, пустяки ужасные; ан нет, для них не пустяки. Между ними не было ни одно еще слово сказано такое, которое показало бы, что... и так далее... Были только взгляды, метанье искр - но что такое это метанье издали! Вздор! А тут не издали, тут руки нечаянно встретились в темноте, и лапища молодого, но здоровенного сержантика по-медвежьи сцапала пухленькую ручку "беляночки", которая, в свою очередь, словно лапочкой котенка, пожала сухую, жилистую лапищу сержантика. Вот и все! А поди ты: эти "сенцы" гвоздем засели в памяти глупых детей. Под рокот и гул ядер, под свист пуль, под стоны раненых там, в Турции, молодому сержантику вспоминались эти "сенцы" и это глупое щелканье соловья, да и "беляночке" тоже. Глупые дети!
А тут новое что-то, страшное висит над Москвой. Чаще и чаще раздаются в московских церквах звоны "на отход души". Каждое утро по всем церквам слышатся душу надрывающие перезвоны "на вынос", "на погребение".
Лариса исполнила совет отца. Напоив его и брата чаем, она проводила их за ворота: отец отправился в свой госпиталь, к своим обычным занятиям, а брат ее Саня в лекарскую школу, где он учился, избрав по своей собственной склонности ремесло отца, медицину.
Проводив их, Лариса заказала кухарке обед с тем, чтобы на жаркое была телячья печенка, "папочка ее любит", сделала необходимые распоряжения по хозяйству и велела, кроме того. Клюкве (так звали девочку, прислуживавшую Ларисе, за ее необыкновенно красные щеки) сбегать к обеду за грушевым квасом, до которого папочка тоже был большой охотник.
- В Сундушный ряд, барышня? - весело спросила девочка.
- Зачем в Сундучный?
- А за квасом грушевым, барышня.
- Что ты, Клюковка! Сундучный ряд далеко.
- Ничего, барышня, я сбегаю.
Лариса оделась и вышла на улицу. Апрельское солнце начинало уже пригревать. У заборов, на проталинах, из земли уже выглядывала зелень, не то новые стебельки молодой травки выползали на свет Божий, не то прошлогодняя зелень, спавшая всю зиму под снегом, просыпалась теперь и поглядывала на солнышко: так ли де оно "светит теперь, как в прошлом году светило?". Да, так-то так, только горя людского оно освещает теперь больше, чем тогда освещало...
Читать дальше