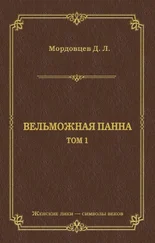Несколько дней тому назад старец Зосим и Спиря-юродивый, ревнуя об освобождении святой обители от нового Мамая, так величали воеводу Мещеринова эти два старца, забрали себе в голову смелую мысль: пойти по стопам приснопамятных иноков Пересвета и Осляби и так или иначе добыть нового Мамая. Для этого они ночью вышли из монастыря и, никем не замеченные, добрались до стрелецкого стана. Стрельцы спали. Спали даже часовые. Зосима и Спиря подползли к палатке воеводы и только было хотели войти под полог ее, как проснулась спавшая у самого входа в палатку воеводская собака, залаяла на ночных посетителей и разбудила воеводу. Озадаченные неожиданностью, услыхав тревогу во всем лагере, старцы должны были поспешить назад в монастырь... Из воеводской палатки раздался выстрел, - и Зосима, вскрикнув и схватившись за бок, был подхвачен сильными руками юродивого.
Зосима находился между жизнью и смертью. "Безребрая", как выражался Исачко-сотник, уже махала косою над головой раненого, только Спиря "ей, шельме, тертого хрену подносил", и она бегала от Божьего человека, как черт от ладану.
Окна в келье открыты, чтобы легче было дышать больному. Откуда-то, должно быть с монастырской стены, доносится полупьяное напеванье:
Ах ты, шапка, ты, шапка моя,
Одного сукна с онучею...
Это Исачко, от скуки подвыпивший, сидел на затинной пищали, глядел на море и мурлыкал свою любимую песенку: ратным людям дозволялось выпивать вне правил монастырского устава об "утешении".
"Ти-ти-вик! Ти-и-вик!" - пропискнула ласточка.
Спиря, сидевший около раненого в глубокой задумчивости, поднял свою косматую голову. Ласточка, влетевшая в окно, села на засохшие прутья освященной вербы, заткнутые за образа, и поглядывала своими изумленными глазками.
Раненый открыл глаза и блуждал ими по потолку.
"Ти-и-вик! Ти-и-вик!"
- Это ее душенька, - как бы про себя пробормотал раненый.
- Чья? - спросил Спиря тихо.
- Ейная... Она за моей прилетела.
Спиря перекрестился. Снова тихо в келье. Косые лучи солнца сквозь открытое окошко падали на лежавшее на маленьком аналое, рядом с Евангелием, распятие. Там же лежал и знакомый нам череп.
Ласточка снялась с вербовых прутьев, покружилась по келье и с писком выпорхнула за окно. Раненый открыл глаза.
- Это к моей смерти, - сказал он и поглядел на юродивого осмысленными глазами.
- В животе и смерти Бог волен, - отвечал последний.
- Нет, мой конец пришел... Конец приближается... Будет, пожито... гораздо пожито...
Раненый перекрестился и снова взглянул на юродивого.
- Не хочешь ли испить? - спросил последний.
- Хотел бы...
Юродивый поднялся, чтобы подать кружку с питьем.
- Нет, не того, - отрицательно покачал головою больной.
- Чего же тебе?
- Крови бы пречистой...
Юродивый посмотрел на него с удивлением: не бредит ли-де? Нет, не бредит: глаза глядят разумно, жар прошел.
- Христовой бы кровушки перед смертью, - пояснил больной.
- Причаститься захотел?
- Да, душа алчет и жаждет... Исповедай меня, брате святый.
Юродивый задумался. Он вспомнил слова архимандрита, когда изгоняли из монастыря Геронтия с попами: "Будем друг у дружки исповедоваться перед лицем Господа, как крины сельнии исповедуются"...
- Добре, брате, кайся Господу, - сказал он и встал.
Затем, встав перед аналоем на колени, он начал читать предысповедную молитву. Больной тихо повторял за ним: "Се ми одр предлежит, се ми смерть предстоит, суда Твоего боюся", - слышались молитвенные слова, которые иногда перебивал доносившийся со стены монотонный напев:
Ах ты шапка, ты, шапка моя...
- Великий грех у меня давно лежит на душе, тяжкий грех! Ох, какой тяжкий! - начал больной после молитвы. - Сорок лет, словно жернов на шее, волоку я этот грех и доволок до могилы. Ни днем, ни ночью, ни во пиру, ни в беседе, ни за четьем-нетьем церковным, ни за келейною молитвою не отваливался от моего сердца этот горюч алатырь-камень... Вот так и стоит она передо мною, кровавая, и шепчет: "За что погубил меня? Куда ты девал мою голову? Ох, тяжко! Смертушка моя, как тяжко!"
Он помолчал, как бы собираясь с силами. Юродивый тоже молчал, хотя губы его шевелились. Ласточки задорно щебетали за окном, как будто силясь одна другую переговорить, словно бы у них шла речь о предметах такой важности, как сугубая аллилуйя.
- Был я княжова роду, воеводин сын-княжич и воеводич, - продолжал больной, тяжело вздохнув. - Рос я в холе и воле, не ведал сызмальства ни судержу, ни суперечины, был батюшковым любимым сынком, а у матушки мизинчиком. Таким и вырос, таким и до окаянства дошел. Из воеводича и княжова сына я сам стал воеводою и князем: лет сорок тому будет, как я воеводою назначен был. Послан я был в те поры на воеводство в Муром...
Читать дальше