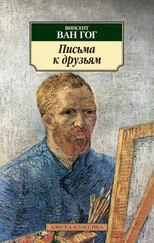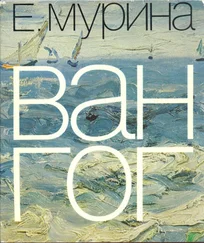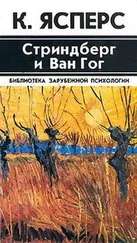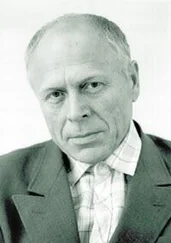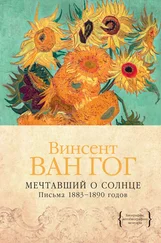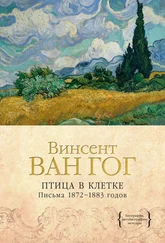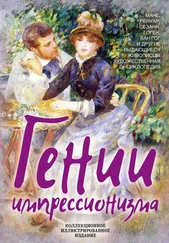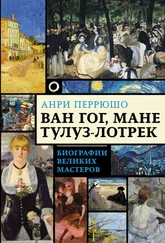Е Мурина - Ван Гог
Здесь есть возможность читать онлайн «Е Мурина - Ван Гог» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ван Гог
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ван Гог: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ван Гог»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ван Гог — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ван Гог», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
"Многобожие" Ван Гога безусловно "превосходит все исторические формы религии", а его вера в чистый цвет дает пример выхолащивания религиозности "при предельной самонасыщенности - насыщенности именно самою собой", приводящего к перенесению на искусство понятий и норм утраченной веры.
Все сказанное говорит о том, что любая попытка "привязать" Ван Гога к какой-то определенной школе, традиции, учению или направлению не может не оказаться несостоятельной, искажающей его противоречивую, динамичную и ни одним термином не определимую сущность. Его особенность именно в том, что он стоит вне и над направлениями и течениями художественной, литературной, философской и религиозной мысли, получая импульсы от самых противоположных и, казалось бы, несовместимых с точки зрения логики явлений культуры. Однако именно эта противоречивость Ван Гога, его раздвоенность и оказывается его плодотворной чертой, движущей силой его развития. Он словно перекресток, на котором скрещиваются и от которого затем расходятся самые разные направления и течения искусства и художественной мысли. И только это имеет отношение к тому, что можно было бы определить в нем, как главное: Ван Гога занимают прежде всего проблемы человеческого существования свободы, жизни, смерти, - которые он стремился понять и разрешить с помощью искусства 79, пытаясь раздвинуть границы живописи до такой безмерности (с точки зрения классических традиций), чтобы она была способна решать проблемы человека, не разрешимые ни наукой, ни религией, ни философией, ни социальным прогрессом.
Пожалуй, именно в этом пункте и начинается коренное расхождение между ним и Сезанном, имевшее такое значение для последующего развития искусства, пошедшего по двум, во многом противоположным путям. Сезанна потому и рассматривают как последнего классика, что он культивировал живопись, как самозамкнутую внутри себя и своих проблем форму человеческой деятельности, противостоящей всему, что не есть она и ее предмет. Как известно, такое самозамыкание внутри живописи способствовало в этот исторический период ее обогащению. Ведь именно в связи с его всепоглощающим интересом к сущностным проявлениям гармонии природы он оказался перед неисчерпаемыми творческими задачами, которые продолжали питать проблематику искусства XX века. И каковы бы ни были трудности и муки Сезанна, связанные с неисчерпаемостью этих задач, именно их неисчерпаемость обещала ему длинную плодотворную жизнь в искусстве. Собственно, главной или скорее сокровенной целью Ван Гога было даже не овладение искусством живописи и рисунка, а творческое развитие своей личности, стремление которой к обретению своего "я" и раскрытия его "другому" привело его на путь художника-новатора, перевернувшего целый мир устоявшихся художественных представлений. Считая искренне себя всего лишь "учеником", "второразрядным" явлением, он последовательно выступал против рационалистического академизма, против оптически-чувственного эмпиризма импрессионистов - против любой опосредованной системы, основана ли она на культе разума и совершенства или прекрасного и природы. Ценность человеческой личности, со всей исключительностью ее существования, мышления, ее мира, которая раскрывается непосредственно, помимо законов и правил, - вот что утверждает Ван Гог. В его обращении к безличностному буддийскому миру с этой точки зрения заключался глубокий парадокс и противоречие, которое он изживает, отказавшись в последующий период своего творчества от арльской программы, хотя и продолжая употреблять в качестве символико-декоративных элементов приемы дальневосточного искусства.
Воспоминание о Севере
Сен-Реми
3 мая 1889-16 мая 1890
Овер-сюр-Уаз
20 мая 1890-29 июля 1890
3 мая 1889 года Ван Гог, сопровождаемый аббатом Саллем, прибыл в Сен-Реми, расположенный неподалеку от Арля. Директор убежища доктор Пейрон 1 предоставил Ван Гогу отдельную комнату, окно которой выходило на поля, замыкающиеся на горизонте грядой гор (мотив, часто встречающийся в пейзажах Ван Гога). Ему было разрешено работать и выходить за пределы убежища, расположенного в бывшем августинском монастыре XII-XIII веков, который был перестроен и с начала XIX века превращен в лечебницу св. Павла для душевнобольных. Окрестности монастыря были очень красивы и разнообразны по мотивам - виноградники, оливковые рощи, поля, засеянные пшеницей, и неподалеку отроги Альп, горы Люберон, которые также служили Ван Гогу в качестве мотивов его "апокалиптической" живописи последних месяцев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ван Гог»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ван Гог» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ван Гог» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.