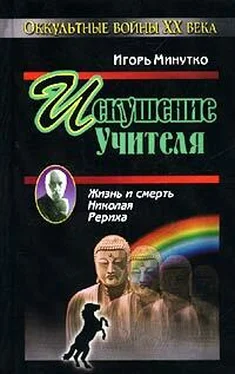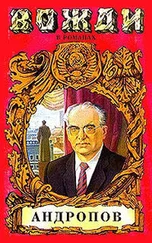— Не возражаю, — сказал художник, подумав: «А товарищи большевики из Чрезвычайки путешествуют по свету с комфортом».
— Да, учитель, — нарушил возникшее снова молчание Владимир Анатольевич, — пока мы не приступили к трапезе. Смею вас заверить, что я следую в Штаты вовсе не как ваш сопровождающий… У меня в Америке. свои дела, миссия, если угодно: предстоит наладить оборвавшиеся связи с американским теософским обществом. Мы и этот предмет обсуждали с вами — теософию. Помните?
— Да, обсуждали.
— Вы знаете, теософия — моя давнишняя страсть. И вам, Николай Константинович, наверняка известно, что теософское общество, филиалы которого теперь существуют во всем мире, было создано в США нашей соотечественницей Еленой Петровной Блаватской… точно не помню, в каком году.
— В тысяча восемьсот семьдесят пятом, — сказал Рерих.
— Да, да! Совершенно верно, — Шибаев смутился. — Извините.
Николай Константинович чувствовал: Горбун хочет сказать что-то важное, и никак не может решиться.
— И вот что, учитель…— Владимир Анатольевич опустил голову, нагнувшись к столу, и горб его теперь возвышался за спиной как бы самостоятельно, стал третьим участником беседы. — Я принимаю ваше предложение…
— То есть?.. — Рерих не сразу понял, о чем идет речь.
— Ну… Я согласен быть вашим секретарем, вести дела, связанные с Востоком, с Индией, с возможными предстоящими экспедициями.
— Ах, да! — теперь был смущен Рерих: «Совсем из головы вон…» — Что же, замечательно! Я очень рад… Только как же теперь? В новых обстоятельствах: я — в Америке, вы — в Латвии или… в Москве. Не знаю…
— Полно, Николай Константинович! — перебил Шибаев. — Не век же вы будете сидеть в Штатах! Потом… И на расстоянии можно вершить любые дела, уверяю вас! Притом вершить самым наилучшим образом.
— Может быть…
— Значит, вы берете меня?
Николай Константинович не успел ответить: открылась дверь одной из спальных комнат, и в гостиной появился высокий сухощавый мужчина лет тридцати пяти в строгом черном кителе, брюках галифе и до блеска начищенных сапогах, без знаков воинского звания; смуглый, черноволосый, с большим, «думающим» (как определил для себя Рерих) лбом; крупный нос, пристальный напряженный взгляд темных глаз, впалые щеки, губы твердо сжаты, в уголках рта еле уловимая усмешка — во всем облике нечто напряженно-волевое, аскетическое, нервное. От этого человека исходили волны некой жаркой, даже опаляющей энергии, которую живописец ощутил сразу, и подействовала она на него возбуждающе.
— Здравствуйте, — сказал незнакомец сухо и холодно.
— Разрешите представить, — заспешил Горбун. — Замечательный русский художник Николай Константинович Рерих — Глеб Иванович Бокий…
— Работник Объединенного государственного политического управления, — пришел на помощь коллеге третий участник начавшейся тайной встречи.
«Ну, этого я и ожидал», — подумал художник, однако что-то екнуло в груди.
Бокий сел за стол, окинул его быстрым изучающим взглядом и нахмурился.
— Что-нибудь не так, Глеб Иванович? — спросил Шибаев.
— Слишком «так», — усмехнулся руководитель операции, которая в Москве на Лубянке была названа — и кому в голову пришло? — «Статуя Свободы». — Любите, Владимир Анатольевич, роскошествовать. Ну да ладно! Сегодня, пожалуй, можно и должно: думаю, эта наша встреча — историческая для судеб России. И прежде чем поднять первый бокал, давайте обсудим одно дело. У нас к вам, Николай Константинович, очень важное предложение… У меня есть интуитивное ощущение, что вы его примете. Я бывал на ваших выставках, читал многие ваши статьи. Ведь вы за сильную, могучую, единую и неделимую Россию, не так ли?
— Безусловно! — быстро ответил Рерих.
— Великолепно! Значит, мы договоримся, и у меня есть уже первый тост. Однако давайте наши переговоры проведем на трезвую голову.
Переговоры продолжались больше трех часов, и был момент, когда в дверь каюты деликатно постучали: дежурный матрос сказал, что Елена Ивановна разыскивает супруга. Пришлось на четверть часа покинуть каюту, дабы успокоить жену. И это оказалось очень кстати: появилась возможность посоветоваться с Ладой и совместно принять решение. Николай Константинович оказался прав: медиум и пророчица не была против. Наоборот — горячо одобрила решение мужа.
Утром 3 октября 1920 года трехпалубный пассажирский пароход «Зеландия» бросил якорь в порту Нью-Йорка. Было пасмурно, туманно и тепло; шел мелкий тихий дождь. Пока опускали трап, готовились к высадке пассажиров, Рерих с женой и сыном Юрием стояли на палубе и смотрели на смутные причудливые очертания гигантского города, вершины небоскребов которого терялись в тумане.
Читать дальше