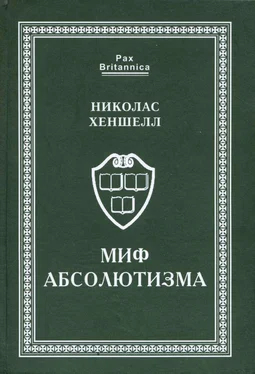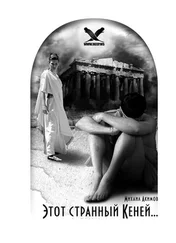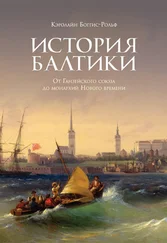Иное решение было принято терпеливой Марией–Терезией. Отказавшись от пораженческой позиции своего деда Леопольда II, сознательно считавшегося с паутиной местных прав, опутавшей страну, она решилась на фундаментальные изменения основ государства Габсбургов. Предварительными мерами были отмена налоговых льгот дворянства и духовенства, а также отмена десятилетнего налога. В 1748 году она направляла Хаугви–ца последовательно в каждую провинцию, чтобы тот обратился к представительствам и продемонстрировал им все свое искусство убеждения. Только с Каринтией Марии–Терезии не удалось прийти к соглашению; тогда она деспотически применила свое jure regio, под которым императрица, вероятно, понимала верховную власть в чрезвычайных ситуациях. Успех королевы–матери в проведении всесторонней программы реформ объяснялся по–разному. Однако тот факт, что она использовала легитимные методы, а ее сына обсуждали за несоблюдение конституции, исследователи упоминали редко.
Если идеалом Иосифа II был просвещенный деспотизм, то идеалом Екатерины II —просвещенная монархия. Говорить о России особенно трудно: это обусловлено трудностями в адекватном переводе русских эквивалентов понятий «автократический», «суверен», «абсолютный». Убеждение западных историков в том, что Россия представляла собой восточную деспотию, чуждую традициям европейских монархий, кажется все менее обоснованным. Подобное неверное представление было распространено среди досужих наблюдателей в раннее Новое время. Екатерина, прекрасно понимавшая, что российская монархия уже воспринимается утонченными западными умами как страна деспотическая, стремилась превратить ее в абсолютную монархию с «промежуточными органами власти», которые восхвалял Монтескье. Она решила извлечь выгоду из отсутствия консультативных органов, существовавших на Западе. Императрица оставила около 700 страниц заметок относительно Commentaries on the Laws of England» Блэкстоуна. 1Самым ранним ее трудом стал «Наказ» 1767 года, где она декларировала абсолютную власть монарха и промежуточных корпораций, воплощавших права населения. Впоследствии она попыталась установить законы там, где они ранее никогда не действовали: теперь граждан нельзя было лишить жизни, свободы или собственности без соблюдения юридических формальностей. Был установлен беспристрастный суд, призванный оградить индивидуальные права, перечисление которых напоминало модифицированный вариант Habeas Corpus act. 2Так же как и Иосиф II, она гарантировала права своих подданных в Жалованной грамоте городам (1775) и Жалованной грамоте дворянству (1785). Но в отличие от Иосифа она полагала, что верховный суд будет выполнять законодательные и судебные функции английского парламента. Одна из палат суда должна была избираться дворянами, горожанами и государственными крестьянами. Это объединило бы выборных представителей с механизмами центрального управления так, как никогда и не мыслилось в России ни прежде, ни впоследствии, вплоть до царствования Александра II. 3
Таким образом, в завершающий период эпохи «ancien régime» два государя имели противоположные взгляды на традиционные органы одобрения. «Как будто деспотичный» монарх унаследовал изощренный консуль-
1 De Madariaga I. 1982. Autocracy and Souvereignty // Canadian‑American Slavic
Studies, 16, nos 3-4. P. 369-387; Longworth. P. 1990. The Emergence of Absolutism
in Russia // Miller J. (ed.). Absolutism in Seventeenth‑Century Europe. Macmillan.
P. 175-193, 232, 254, n. 37.
2 De Madariaga I. 1981. Russia in the Age of Catherine the Great. Weidenfeld and
Nicolson. P. 283.
3 De Madariaga I. 1990 Catherine the Great. Yale University. P. 207-8.
тативный аппарат и старался обойти связанные с ним препятствия. «Как будто ограниченный» монарх не унаследовал ничего подобного и сам пытался создать консультативные институты. Эти два случая доказывают сохранившуюся важность репрезентативных органов, воплощенной в них идеи свободы и границ, которые они ставили власти правителя–деспота. Большая часть государей деспотами не была, и возникшая в среде вигов XIX века мода представлять сословные учреждения как угрозу власти короны не соответствует действительности. Они существовали для того, чтобы давать власти законное измерение. Поскольку абсолютные монархи не обладали монополией на власть, они нуждались в представительствах. А раз уж репрезентативные ассамблеи могли сосуществовать с абсолютной монархической властью, то по отношению к «абсолютистским» государствам их следует воспринимать не как маргинальные, а как центральные. Мы должны не п р и н и ж а т ь их значение или игнорировать их существование, а, наоборот, признать их неотъемлемой составляющей власти.
Читать дальше