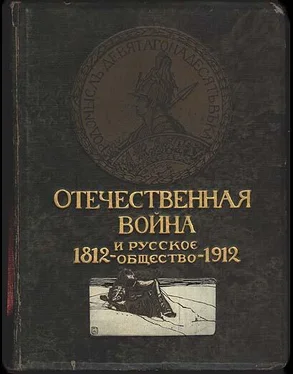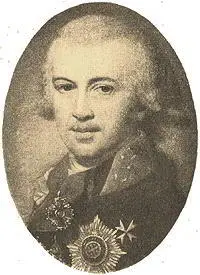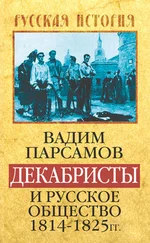VIII.

Е. П. Ростопчина.
Война, как и ночь, porte conseil. То общество, которое пережило войну 12-го и следующих лет, которое отправило многих своих сочленов в Париж и потом, встретив в России их возвращение, стало отдыхать от всего пережитого, — это общество было уже не тем, каким в 1805 году входило в салон Анны Павловны. Был другой строй мысли, другие разговоры, иной род отношений. Появились вопросы, которые прежде и не снились мудрецам салона, стали рассуждать в ином направлении, стали искать сближений не на основании личных симпатий, а руководствуясь соображениями политическими, теми или иными воззрениями на государственные учреждения. Понятие об этом было, конечно, и прежде, но тогда оно не принимало вид недовольства, недовольство не имело степени остроты. Тогда Пьер и князь Андрей, люди близкие по желанию найти истину, рассуждали по возвращении из салона Анны Павловны о личной судьбе, о теоретических вопросах, не касающихся перемен строя в России и неудовлетворительности ее государственных порядков. Их волновал Бонапарт, участие или неучастие России в войне с ним; их занимал вопрос, сделается ли Пьер военным или дипломатом, уедет ли князь Андрей на войну и почему уедет, возможно ли существование народов без войны или нет. Теперь вопросы — иные и иная острота разговоров.
Между 12 и особенно 1805 и 1820 годами — пропасть, которая в романе Толстого ничем не заполнена. Мы не знаем, чем и как в восьмилетний период между изгнанием французов и полным миром 1820 года жило великосветское общество, какие впечатления получало оно из походной жизни, из других слоев населения. Роман оставляет «войну» и дает несколько сценок «мира». Но в этих сценках мы видим приближение новой надвигающейся войны, уже не с внешним неприятелем, а войны внутренней. Мы видим, что страшные испытания, пережитые русским обществом, не могли пройти бесследно: мысль направилась на критику общественных отношений, появились признаки общественного расчленения и новой группировки общественных стремлений и намерений.
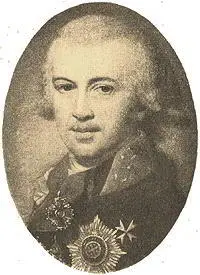
Московский предводитель дворянства П. Х. Обольянинов. (С портрета Боровиковского).
То мирное согласие, с которым жило общество, посещавшее салон Анны Павловны в 1805 году, тот странный симбиоз князя Андрея и Ипполита Курагина, Пьера Безухова и князя Василия, — симбиоз, который изображен в начале романа, мог продолжаться лишь до тяжелых потрясений, испытанных русским обществом за время Отечественной войны. Только полное спокойствие, полный мир, внутренний и внешний, могут удержать князя Андрея на одной дороге с Анатолем, могут сделать из Пьера послушного исполнителя желаний князя Василия. «Органический» период кончается с пробуждением сильной критической мысли, а это пробуждение неизбежно после того, что видели князья Андреи и Пьеры за время войны в России, что видели русские войска за границей.
До войны наиболее самостоятельные умы общества шли позади правительства. Князь Андрей исполнял не собственный самостоятельно выработанный план, когда принимал меры, делавшие из крепостных крестьян «вольных хлебопашцев». Он шел за правительством, за теми членами его, которые совмещали в себе maximum тогдашней прогрессивной мысли. Он делал над собой усилие, чтобы сохранить свою самостоятельность, но не мог, видя в некоторых членах правительства людей, которые далеко обогнали его в помыслах о том, что нужно для государства. Князь Андрей видел в Сперанском, например, «разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти, употребляющего ее только для блага России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий значительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть. Все представлялось так просто, ясно в положении Сперанского, что князь Андрей невольно согласился с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным и не совсем подчиняться мнениям Сперанского». Если за этим увлечением последовало разочарование, то оно касалось некоторых сторон характера Сперанского, а не существа того несомненного положения, что правительство шло не только впереди общества, но и впереди наиболее передовых членов этого общества.
Читать дальше