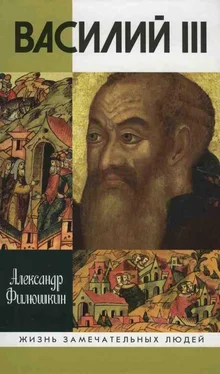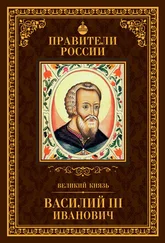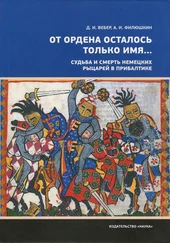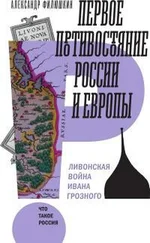Поэтому люди русского средневековья не ощущали исходящей «изнутри», от своих соплеменников угрозы чистоты веры. Зато религиозный соблазн мог прийти извне: раз усвоив определенную христианскую парадигму, Русь оказалась маловосприимчивой к восточным и западноевропейским попыткам ее интерпретации. Она считала все это ересями — «иудейской», «латинской» и т. д. Данное обстоятельство порождало несколько очень важных идеологических установок. Проблема «чистоты веры», с которой в Библии прежде всего связывались категории измены — верности , имела, если можно так выразиться, в основном охранительную «внешнюю» трактовку. Здесь была питательная среда для ксенофобии, неприятия на подсознательном уровне чужих, иноземцев, приверженцев других конфессий. Поэтому даже сами контакты с ними требовали осторожности, а отъездчик за границу уже казался потенциальным изменником (неважно, переменил ли он веру: он все равно не способен сохранить ее целостность в окружении еретиков).
Из-за этого проблематика измены — верности на Руси очень быстро приобрела не столько религиозный, сколько «иноземный» характер. Если для мышления, основанного на буквальном восприятии изменного дискурса Священного Писания, характерна цепочка: « впал в ересь (то есть изменил, усомнился в вере) — стал предателем », то для Руси более характерно: « совершил неблаговидные поступки, стакнулся с чужаками, служит им — он, должно быть, еще и еретик ».
Седьмой Вселенский собор постановил, что православный человек должен всячески избегать соприкосновения с «иным», то есть не прикасаться к еретическим книгам, не разделять с еретиком трапезу, кров и даже одно пространство — от еретика надо физически находиться как можно дальше. Иначе ересью можно заразиться. Представление о том, что невозможно соблюсти чистоту веры, если даже просто какое-то время постоять рядом с еретиком, иногда принимало совершенно фантастические формы. Так, в России XVII века перекрещивали православных, приехавших из Украины и русских земель Речи Посполитой. Считалось, что они не настоящие православные, раз в землях, где они живут, есть еще униаты, католики, протестанты и т. д. Им невозможно остаться истинными православными, если по соседству с чисто ортодоксальным приходом стоит униатская церковь.
На Руси жизнь еретиков осложнялась еще и особой позицией государства по религиозным вопросам. Как показала Яна Ховлетт, на Западе понятие измены — crimen laesae majestatis — появилось в римском гражданском праве и потом было привлечено инквизицией для определения ереси как измены Господу. Но изначально понятие ереси относилось к каноническому праву, а измена — гражданскому. В России же процесс носил обратный характер: понятие измены возникает как «измена вере», и потом государство начинает применять это изначально чисто церковное понятие к отступникам от государства [32] Там же. С. 121.
. Переход на сторону врага, предательство изначально обозначались на Руси термином «перевет», а словом «измена» первоначально называлось исключительно отречение от своей веры.
Первое употребление этого термина летописцем содержится в рассказе об убиении Михаила Черниговского в Орде в 1246 году. Михаил наотрез отказался участвовать в языческих обрядах, которым подвергали в Орде русских князей: поклонении идолам, кусту и прохождении между зажженными кострами. Черниговский князь заявил, что не желает «именем хрестьян зватися, а дела поганых творити». По его словам, какая польза в обладании всем миром при погублении своей души, «что даст человек измену на души своей» [33] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты). М., 1915. Тексты. С. 57.
. В данном случае перефразирован стих из Псалтыри: «Брат не избавит, избавит ли человек? Не даст Богу измены за ся, и цену избавления души своея» ( Пс. 48:8–9 ).
В XIV–XV веках, по мере перехода термина «измена» в юридический лексикон, сохранилось представление об изменнике, предателе как одновременно непременном еретике. Измена человеку почти всегда есть измена Богу, потому что все равно нарушается клятва верности — крестоцелование. И, напротив, любой даже по мелочи усомнившийся в догматах веры — еретик и одновременно преступник, предатель православного государства.
В этом идеологическом контексте и возникли ереси конца XV века. Их появление стало возможно в контексте ожидания Конца света в 1492 году от Рождества Христова, то есть 7000-м от Сотворения мира. Об этом говорили многие пророчества, и недавно подтвердилось самое страшное из них — Мефодий Патарский утверждал, что накануне Конца света погибнет Константинополь. В 1453 году Константинополь был взят турками, что было воспринято как несомненное свидетельство близкого Последнего дня. Даже Пасхалии — дни Пасхи — были рассчитаны только до 1492 года. Далее, считалось, они не понадобятся. На полях одной из рукописей против даты 1492 было написано: «Зде страх! Зде скорбь!» [34] Последний обзор источников и историографии об эсхатологических ожиданиях в конце XV в. см.: Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV — начала XVI в. СПб., 2002. С. 45–130.
Читать дальше