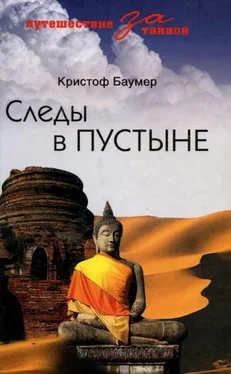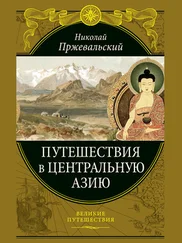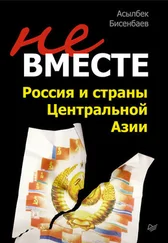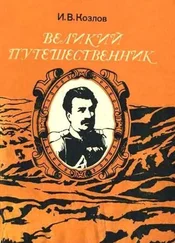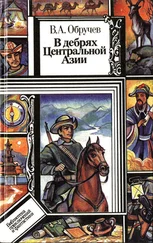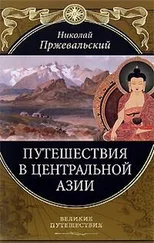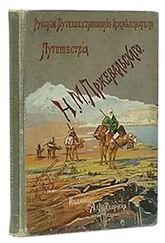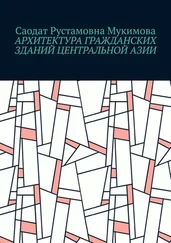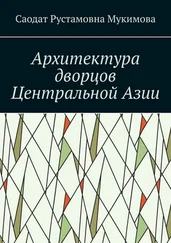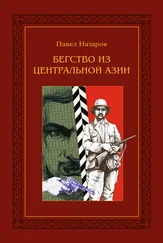Проснувшись на следующее утро, усталые и с затекшими конечностями, мы посетили неприметный монастырь Зутрул-Пхук, обязанный своей славой знаменитому аскету и мистику XI века Миларепе, который медитировал в одной из его пещер в течение многих лет. Миларепа был одним из духовных отцов буддистской школы Кагью и внес большой вклад в распространение тибетского буддизма — вопреки и за счет религии Бон, позиции которой в результате сильно пошатнулись. Буддизм должен был предъявить права на гору Кайлаш, чтобы продемонстрировать свою победу над Бон всем тибетцам. Этот конфликт нашел свое аллегорическое отражение в эпическом соревновании между Миларепой и мастером Бон Наро Бон-Чунгом.
Традиционная легенда Кагью рассказывает, что Миларепа, который был в юности наводящим ужас чародеем, пришел к Кайлашу, чтобы вызвать Наро Бон-Чунга на состязание, призом в котором должна была стать священная гора. После того как мастер бонпо был несколько раз посрамлен магическими умениями Миларепы, одному заключительному состязанию — подъему на пик Кайлаш — предстояло решить раз и навсегда, кто станет победителем. Состязание состоялось на месте монастыря Зутрул-Пхук. Наро Бон-Чунг пытался достичь вершины горы с помощью трюка шаманской магии — взлетев на своем бубне. Но когда до цели тому оставалось совсем чуть-чуть, Миларепа опередил его, перенесшись на гору с первым лучом утренней зари. Наро Бон-Чунг, охваченный страхом, соскользнул со своего волшебного бубна и рухнул на землю. Но Миларепа сжалился над поверженным соперником и не только предоставил ему новое место для жилья в виду Кайлаша — монастырь Тисе-Бон-Ри, — но также позволил ему продолжать совершать паломничество вокруг священной горы. Монастырь, уступленный Миларепой Наро Бон-Чунгу, до самой «культурной революции» стоял у подножия горы Бонри, в 30 км к востоку от Кайлаша. Этот миф символизирует для тибетцев победу новой веры над старой и подчеркивает терпимость буддизма тех времен. В настоящее время религия Бон практически исчезла у себя на родине, в Западном Тибете, и там ее представляют только паломники из Центрального и Восточного Тибета.
Переход от Зутрул-Пхука обратно к Дарчену был не в пример легче. Вдольдороги выстроились бесчисленные стены мани-камней, протянувшиеся на десятки метров, на которых были написаны и вырезаны миллионы мантр. Победителями оказались не только боги — наша группа тоже: ведь мы завершили свое паломничество, а снег и туман, омрачавшие наш поход, исчезли так же быстро, как и появились.
Наш поход (в марте 1922 г.) привел нас к священному храму, называемому Це-Гутхок — «девятиэтажная тсе». Там находится башня высотой в девять этажей, построенная святым Миларепой много лет назад. Ему сильно досаждали демоны, но в конце концов он успешно завершил постройку. Обойти вокруг (внешней) узенькой платформы на вершине (25-метровой высоты) башни, обнесенной для безопасности цепями, — великая привилегия; но для этого надо не бояться высоты, чего о нас не скажешь.
Ф.М. Бейли, британский правительственный чиновнике Сиккиме и Тибете, 1921–1928 гг. [50] F.M. Bailey. ‘Through Bhutan and Southern Tibet’ (1924), p. 295.
Я давно хотел посетить башню Миларепы, в особенности потому, что слышал, будто там еще можно увидеть первоначальные, оригинальные фрески. Однако Це-Гутхок , ныне называемый Секхар-Гутхог, находится в Лходраке, военизированной зоне у границы с Бутаном, полностью закрытой для туристов. Даже тибетцы и китайцы не могут въезжать туда без специального разрешения. Последним иностранцем, посетившим Секхар-Гутхог, был британский посол в Лхасе Хьюг Ричардсон, когда уезжал из Тибета через Секхар в 1950 г.
Несмотря на все препятствия, неожиданно мне выпал шанс попасть туда, когда мой коллега Майкл Хенс, тоже интересовавшийся Секхаром, получил из Лхасы известия о предоставленном нам разрешении. Правда, по прибытии в Тибет мы обнаружили, что агент, занимавшийся нашими разрешениями, наобещал гораздо больше, чем смог сделать: служба безопасности в Лхасе нам отказала. Пытаться попасть в Секхар без разрешения было бессмысленно, так как дорога перекрыта полицейскими и армейскими блокпостами. Не желая сдаваться в самом начале поездки, мы решили доехать до Цзетанга, откуда начиналась дорога на Лхо-драк, и предпринять еще одну, последнюю попытку убедить региональную службу безопасности, чья штаб-квартира находилась в Цзетанге. После переговоров и просьб, передаваемых нашим переводчиком Таши, вердикт остался неизменным: «Никаких разрешений на въезд в Лходрак!»
Читать дальше