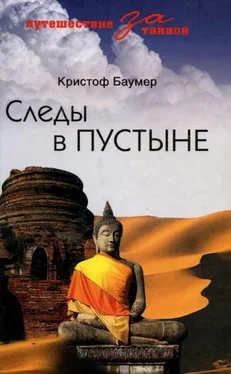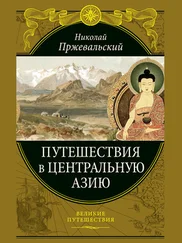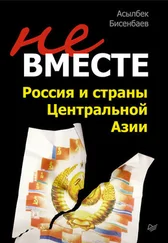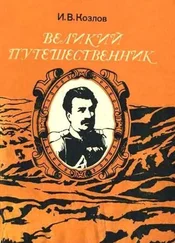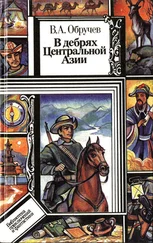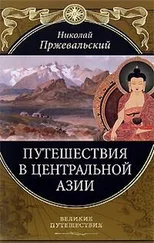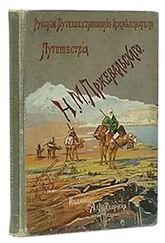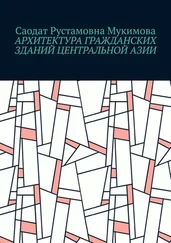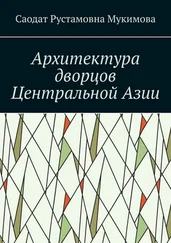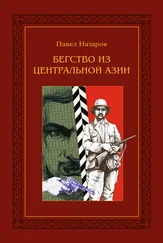На расположенном рядом базаре меня заинтересовал предсказатель будущего, практиковавший оригинальный и определенно «неисламский» метод «попугайского оракула». Он достает своего попугая из клетки и ставит его перед маленькой корзинкой, наполненной пророчествами. Специально обученная птица выхватывает клочок бумаги — и клиент узнает свое будущее.
По дороге в Урмию мы остановились в Делемоне [12] Возможно, авторская неточность. Древнее название Салмаса — Зарванд. ( Примеч. пер.)
, ныне Салмасе, и посетили церковного распорядителя, который показал нам церкви и большое христианское кладбище. Как и на других кладбищах, рядом со многими могилами были установлены каменные фигуры баранов. Этот обычай, который также встречается в Казахстане и Монголии, восходит к временам монгольского правления в Иране (1256–1335). Мы доехали до ближайшей часовни — Мар-Якоб, — где церковный служка поведал нам, как 16 марта 1918 г. его дед сопровождал ассирийского патриарха Мар-Шимуна XIX (Беньямина) в Мар-Якоб на встречу с курдским главой Ага Симко, который пригласил его якобы на переговоры. При расставании Симко поцеловал патриарха в знак мира — и вдруг раздались выстрелы. Патриарх и несколько его сопровождающих пали под градом пуль. Дед нашего церковного служки уцелел, успев укрыться в часовне и запереться на засов.
Мы покинули Мар-Якоб и поехали дальше вдоль западных подножий гор, в склонах которых ветер и вода выточили бесчисленные глубокие каверны. Еще светило солнце, но приближалась сильная гроза: покрытые снегом вершины сверкали на грозном фоне черно-серых туч. Всех нас охватило гнетущее чувство, и мне подумалось о бедствиях ассирийцев во время Первой мировой войны, когда более 30 000 были убиты турецкими и курдскими ополченцами. К вечеру мы наконец добрались до Урмии, где нас ждал теплый прием со стороны городского священника Элиоша Азизьяна.
Урмия — восхитительный город. Он претендует на гордое имя родины Зороастра (Заратустры) и места, где находится старейшая в мире церковь. Легенды говорят, что когда три библейских мудреца, которые, как многие полагают, были высшими иерархами зороастризма, вернулись со Среднего Востока, они основали на этом месте храм огня. Тридцатью пятью годами позднее апостол Фома превратил его в церковь Девы Марии. Хотя я и не уверен относительно соответствия этой легенды историческим фактам, преклонный возраст церкви, опустившейся значительно ниже теперешнего уровня почвы, не вызывает сомнений.
Вход ведет сначала в склеп, в котором находятся гробницы выдающихся церковных деятелей, а затем в главный неф. Боковой проход приводит в маленький баптистерий, а от него — в апсиду, входить в которую могут только духовные лица. Похожий на катакомбы, храм обещает вечный покой мертвым и временный — живым.
В следующие несколько дней отец Азизьян водил нас по десяткам несторианских церквей в маленьких окрестных деревушках, расположенных как на открытой местности, так и в ближних горах. На территории, окружающей город, существует более сотни церквей и часовен, однако большинство из них закрыто из-за боязни вандализма, и открываются они только раз в году, в дни своих святых-покровителей. В двух церквях двери были взломаны и распахнуты, и сигаретные окурки, пустые бутылки из-под лимонада и человеческие экскременты устилали полы, а стены были изуродованы антихристианскими надписями и рисунками. Христианские кладбища также стали мишенью вандалов. Несколько раз я видел недавно вывороченные надгробные памятники с выцарапанными на них исламскими лозунгами и вскрытые могилы. Виновников никогда не наказывают. Один старик христианин из деревни Гёктепе лаконично заметил:
— Кто не уважает мертвых — живых тоже не уважает.
Нам довелось убедиться, насколько обоснованно это суждение. Мы отправились в бывший армянский монастырь Св. Стефана. Дорога к нему идет по юго-западному берегу реки Араке, по которой пролегает граница между Ираном и эксклавом Нахичевань, принадлежащим Азербайджану. На противоположном берегу реки, где уже азербайджанская территория, мы увидели теснящиеся друг к другу каменные стелы высотой до 2,5 м, около половины которых еще стояли. Это было христианское армянское кладбище города Джулфа. Чтобы сфотографировать его, несмотря на запрет останавливаться на этом неспокойном пограничном участке, мы скрылись в маленькой часовне на склоне горы и использовали телеобъектив. Практически сразу из-за реки раздались яростные свистки и крики азербайджанских пограничников. В бинокль можно было разглядеть, что некоторые памятники богато украшены крестами, цветочным орнаментом и армянскими надписями. Самым старым было не меньше тысячи лет, а некоторые служили напоминанием об армянских беженцах, убитых здесь в 1915–1916 гг.
Читать дальше