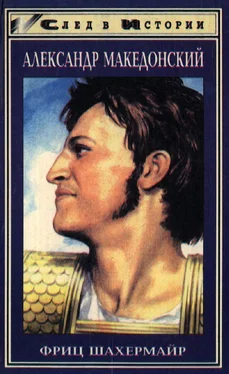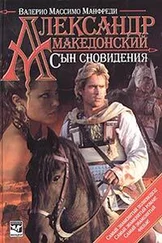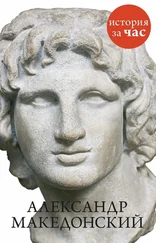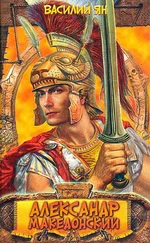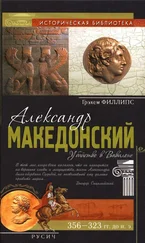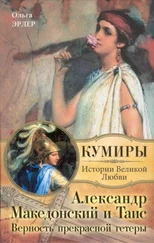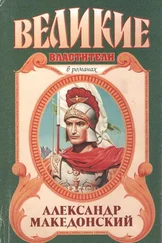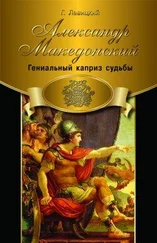С древнейших времен у иранцев сохранялась вера в огонь, принятая и Заратуштрой. «Огонь — высшая сила: он окружает мир и проникает в него; все живет только тем, что горит, и во всем горит один и тот же небесный огонь. Человек также живет одной этой силой, и воля его и разум суть проявления этого небесного огня, который действует в нем, через него, из него» [242] Цит. по: К. Erdmann. Das iranische Feuerheiligtum, 1941. Литература по вопросу приведена в: Fr. Schachermeyr. Alexander in Babylon und die Reichsordnung nach seinsm Tode. Wien, 1970, c. 38 и с. 682.
. Огонь означает здесь также и свет — божественную стихию, противостоящую тьме зла.
То, что возвышает Великого царя над другими смертными в культовом смысле, так это его непосредственное отношение к божественному огню. Огонь обладал тем, чего Александру так хотелось, — божественностью. Поэтому отныне его постоянным спутником стал огонь, зажженный на алтаре или же несомый перед царем на серебряной подставке.
По всему царству было множество алтарей огня; и повсюду при них находились жрецы огня, одновременно исполнявшие от имени царя административные функции. Поэтому Великий царь приобретал особое величие как от сопровождавшего его и лично с ним связанного огня, так и от своей роли верховного владыки огненного культа всей державы. Насколько серьезно к этому относились, видно из того, что после смерти Великого царя во всей империи священные огни были погашены и зажжены вновь только после восшествия на престол нового царя [243] Diod. XVII, 114, 4.
.
Если на алтаре, о котором упоминает Харес, действительно горел огонь, то это мог быть только персидский царский огонь. Став преемником египетских фараонов, Александр торжественно принес жертву Апису. Заняв трон в Вавилоне, он поклонился богу Мардуку и не отступил ни в чем от древнего обычая. Теперь в Иране он должен был принять священный огонь, раз уж он счел себя преемником Ахеменидов. Несомненно, персидские придворные царя старательно поддерживали повсюду сопровождавший его огонь, заботясь о том, чтобы в империи под эгидой нового царя сохранилось идолопоклонство.
Теперь становится понятно, почему перс, комендант Вавилона, ознаменовал прибытие нового властителя устройством жертвенных алтарей [244] Curt. V, 1, 20.
. Они символизировали царский огонь, который впервые осветил победителя в знак обретенного им величия Великого царя. До сих пор полагали, будто Александр мало заботился о религиозных представлениях и обрядах персов. Теперь это положение было опровергнуто. Если рядом с Александром был царский огонь, сопровождавший его и в торжественных случаях ярко освещавший его лицо, то при его дворе и главной квартире должны были находиться жрецы, а следовательно, иранские верования были ему ближе, чем думали раньше. Он, конечно, понимал, что поклонение огню важнее для обоснования преемственности власти, чем персидская одежда. Отсюда становится более ясным смысл стоящего особняком свидетельства Диодора [245] Diod. XVII, 114, 4.
, что Александр зимой 324/23 г. до н. э., во время траура по поводу смерти Гефестиона, велел погасить огни на всех, а следовательно, и на царских алтарях. Этот символический акт объясняется тем, что покойный в последние годы являлся соправителем Александра. Также и после смерти Александра, как уже говорилось, были погашены священные огни [246] Curt. X, 5, 16.
.
Теперь о связи алтаря с введением проскинезы. В монографии, вышедшей в 1949 г., говорилось о том, что рассказ Плутарха, восходящий к Харесу, наводит на мысль о коленопреклонении не перед Александром, а перед огнем алтаря. Этот тезис оспаривался некоторыми специалистами. Теперь считается, что текст допускает такое толкование, но предполагает скорее иное [247] Ср.: Plut. Al., LIV, 4 (Chares, frg. 14-a); Arr. IV, 12, 3 — 5.
. Персы, пожалуй, падали ниц перед самим царем, так как речь шла не о религиозном обряде, а о мирском преклонении перед авторитетом Великого царя. Обычно свершивший проскинезу, как мы предполагали уже ранее, посылал царю воздушный поцелуй, и только члены семьи или приравниваемые к ним «сородичи» являлись исключением: царь целовал их в уста.
На рельефе в Персеполе изображена сцена царской аудиенции. Пришелец уже поднялся после падения ниц, но спина его все еще согнута. В этот момент он посылает царю воздушный поцелуй. Здесь также между ним и владыкой стоят две подставки со священным огнем. Таким образом, возникает предположение, что уже у персов церемония проскинезы не обходилась без огня. Если огонь был обязателен, то не исключено, что уже у иранцев наиболее яркие черты древневосточного поклонения царю в том виде, как мы их находим, например, у ассирийцев, были смягчены.
Читать дальше