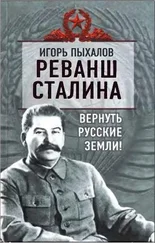Есть, однако, и другой путь. Его, в частности, при анализе интересующих нас сообщений избрал В. Н. Рудаков. Он обратил внимание не на общие места трех ранних летописных повестей о битве на Калке, а на индивидуальные особенности этих рассказов, которые как раз так досаждают традиционным историкам. Результаты, к которым он пришел, сводятся к следующему.
«НОВГОРОДСКИЙ» ОБРАЗ БИТВЫ НА КАЛКЕ
Для автора статьи в Новгородской первой летописи главным объектом анализа стала та сила, тот народ, знакомство с которым произошло при столь драматичных для русских обстоятельствах. По словам В. Н. Рудакова,
«…важнейшим отличием рассказа HIЛ от соответствующего рассказа Лавр., является пристальное внимание, с которым автор повествования присматривается к татарам . Именно под его пером риторические для того времени вопросы…кто суть?…отколе изидоша?…что языкь ихъ?…которого племени суть?…что вера ихъ? приобретают тревожную остроту, и вместе с тем надежду на разрешение» [187] Рудаков В. Н. Восприятие монголо-татар в летописной повести о битве на Калке. С. 21–22.
.
Первый по значимости вывод, к которому приходит летописец: причиной появления татар стала греховность Руси:
… по грехом нашим , придоша языци незнаемы… И тако за грехи наши Бог вложи недоумение в нас… И не сведаем, откуду суть пришли и где деша опять; Бог весть, отколе приде на нас за грехи наши [188] Новгородская первая летопись. С. 63.
.
Очевидно, урок, преподанный читателям «Повести временных лет» в свое время автором статьи, повествующей о половцах как о Божьем батоге, не пошел впрок… Поскольку сами грехи не упоминаются, видимо речь идет о стандартном наборе земных прегрешений, не требующих подробного перечисления, известных читателям и не связанных напрямую с теми или иными конкретными событиями.
Второй вывод автора повести касается вопроса о сакральной сущности пришельцев: кто такие татары, почему и зачем они появились именно в данный момент . Тут-то книжник и прибегает к авторитету Мефодия Патарского.
Это обращение к авторитету единственно логичное для средневекового человека, пытающегося что-либо понять или доказать, довольно своеобразно воспринимается большинством исследователей. Если они и замечают эти цитаты, то необходимость их объясняют традицией. Недоумениеже летописца воспринимается буквально. Так, один из лучших современных знатоков древнерусской литературы В. В. Кусков пишет:
«…Повесть обстоятельно излагает ход событий… Она хорошо передает настроение русского общества при известии о появлении монголо-татарских полчищ. Весть эта была встречена с крайним недоумением:…Явились народы, которых как следует никто не знает, кто они, откуда пришли, каков язык их, какого они племени, какой веры, и зовут их татары, а иные говорят таурмены, а другие называют их печенегами. Автор…Повести ссылается на философско-исторический труд Мефодия Патарского…Откровение. На его основе и дается религиозно-моралистическая трактовка события» [189] Кусков В.В. История древнерусской литературы. Изд. 5-е, испр. и доп. М., 1989. С. 129.
.
При этом остается без должного внимания довольно любопытная подробность. С одной стороны, в повести прямо говорится, что о татарах ничего не известно. С другой автор повести замечает, что премудрые мужи ведять я добре, кто книги разумеет, мы же их не вемы, кто суть [190] Новгородская первая летопись. С. 61. Ср.: Лаврентьевская летопись. Стб. 446.
. Другими словами, автор противоречит сам себе. Противоречие это, видимо, может быть разрешено путем обращения к неким книгам . Видимо, именно такой книгой (или, точнее, одной из таких книг) и представляется летописцу Откровение Мефодия Патарского. Правда, чтобы понять его, требуются премудрые мужи, которые эти самые книги разумеют. Интересно, что самого себя автор повести, как следует из его собственных слов ( мы же их не вемы, кто суть), не относит. Тем не менее он предлагает несколько возможных решений, исходя, прежде всего, из текста Мефодия. Итак, кто же такие, на взгляд древнерусского книжника, неизвестные-известные (как выразился В. Н. Рудаков) татары?
Итак, летописец предлагает на выбор различные варианты идентификации незнаемых языцей:
а зовут я Татары, а инии глаголют Таурмены [191] Любопытно, что книжник дважды причем второй раз вполне определенно называет татар таурменами (Новгородская первая летопись. С. 62. Ср.: Лаврентьевская летопись. Стб. 446).
, а друзии Печенези
Читать дальше