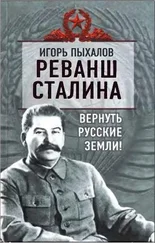…Историю церковной смуты надо начинать с посвящения во вторые митрополиты для России Киприана в 1375-м году при живом митрополите Алексее, а заканчивать утверждением того же митрополита Киприана в Москве в 1390-м году, после многих мытарств и неприятностей» [636].
Для того чтобы понять, какое отношение все это имеет к нашей теме, придется чуть подробнее остановиться на некоторых моментах.
Все началось с жалобы, которую направил великий князь литовский Ольгерд константинопольскому патриарху. Князь упрекал митрополита киевского и всея Руси Алексея, что тот пренебрегает своей паствой в Великом княжестве Литовском: за все годы своего пребывания в сане митрополита он ни разу не появился в Литве. В ответ на жалобу в Киев был направлен сербский священник Киприан (родственник будущего киевского митрополита Григория Цамблака), наделенный самыми широкими полномочиями. Установив справедливость обвинений, выдвинутых против Алексея, он несмотря на протесты самого Алексея и Дмитрия Ивановича был приблизительно в 1375 г. поставлен митрополитом киевским, русским и литовским. Пока сфера его компетенции ограничивалась литовской частью Руси. Но после смерти Алексея (которому тогда уже было за 80) Киприан намеревался объединить обе части митрополии. В обход его (и при еще живом, но больном Алексее) Дмитрий Иванович начинает готовить своего претендента на митрополичий престол собственного духовника и хранителя княжеской печати Митяя:
«…саном бекаше поп… возрастом не мал, телом высок, плечист, рожаист, браду имея плоску и велику, и свершену, словесы речист, глас имея доброгласен износящ, грамоте горазд, пети горазд, чести горазд, книгам говорити горазд, всеми делы поповьскими изящен и по всем унарочит бе» [637]
Эта кандидатура была столь неугодна Алексею, что тот завещал митрополичий престол своему врагу Киприану. Однако после смерти митрополита (12 ноября 1378 г.) тому не удалось попасть в Москву: на подъезде к городу он был задержан людьми Дмитрия Ивановича и отправлен назад, в Киев. Весной 1379 г. Киприан прибыл в Константинополь, где хотел найти управу на действия великого князя московского. В это время в Москве собрался собор русских епископов, на котором, как надеялся Дмитрий Иванович, Митяя должны были рукоположить во епископа. Однако, по настоянию суздальского епископа Дионисия, вопрос этот не был решен. Дмитрию Ивановичу пришлось отправить Митяя на утверждение в Константинополь. Одновременно с ним, но другим путем, в Царьград отправился и Дионисий, который сам желал стать митрополитом. Уже на подъезде к столице Византии Митяй скоропостижно скончался…
Дальнейшая история достойна пера любого лучшего романиста. Она полна невероятных совпадений, неожиданных поворотов судеб едва ли не всех ее участников, клятвопреступлений, обманов и т. д., и т. п. Впрочем, все это способно слишком далеко увести нас от нашей темы… [638]
Так или иначе, Дмитрий Иванович по собственной инициативе оказался втянутым в один из самых острых церковных конфликтов за всю историю Руси-России. Причем действия его явно не вызвали положительного отклика у большинства современников. Приведу лишь одно характерное высказывание, сохранившееся в Рогожском летописце:
«…Не сбылася мысль Митяева и не случися ему быти митрополитом на Руси: не дошед бо Царяграда на мори преставися в корабли и привезен бысть мертв и положен в Галате. Се же преславно явление показа Бог неизреченными его судьбами, глаголет бе апостол:…Никто же о себе честь воземлет, но званыи от Бога. Сего же епископи вси и игумени, и прозвутери, и мниси, и священици вси не хотяху, но един князь великии хотяше. Он же на то надеяшеся, на княжскую любовь, не вспомяну пророка глаголюща:…Добро есть надеятися на Бога, нежели надеятися на князь. Есть же инако разумети, но глаголати не мощно противу судьбам Божиим, многажды бо наводит Бог на ны скорби и предает ны в руце немилостивым пастухом и суровым за грехы наша, но не до конца прогневаеться Господь; ни в веки враждует, ни по грехом нашим воздал нам, рече бо:…Просите и дасться вам и пакы рече:…Призови мя и услышу тя, просите и примите. Вси же епископи и прозвитери и священици того просиша и Бога о том молиша, дабы не попустил Митяю в митрополитех быти, еже и бысть и услыша Бог скорбь людеи своих, не изволи быти ему пастуху и митрополиту на Руси» [639].
Судя по всему, Дмитрия Ивановича подвело то же, что и Андрея Боголюбского: он слишком активно вторгся в пределы юрисдикции духовных правителей и был за это наказан. Время для того, чтобы великий князь в полной мере стал самовластьцемь, все еще не наступило…
Читать дальше