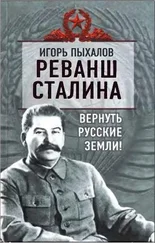Наблюдение это, несомненно, верно. Хотя настаивать на том, что слово «законопреступному» вставлено в библейский текст именно автором Повести, я бы все-таки не стал. Дело в том, что оно по сути присутствует в тексте пророка Даниила:
«…И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному суду. И предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, и царю неправосудному и злейшему на всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших; мы сделались стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя. Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета Твоего» [492].
Автор Повести переставил его, совместив с неправосудностью царя, что, впрочем, столь же показательно. Ссылка на отсутствие искомого слова в сохранившихся переводах, безусловно, важна, однако она в значительной степени дезавуируется новейшими наблюдениями над традицией библейских переводов (в том числе, на Руси). Крупнейший специалист в этой области, А. А. Алексеев отмечает:
«…На пути применения [библейских] цитат в целях текстологии серьезным препятствием стоит отсутствие стремления строго и точно цитировать тексты, неизбежное в рукописную эпоху. Об это препятствие разбились некоторые текстологические теории, посвященные греческим текстам Св. Писания… В условиях славянского средневековья дело осложнялось тем, что и библейские тексты, и сопутствующая им патристика были переводного происхождения. Вместе с переводимым патристическим текстом, переводчики переводили заново и цитаты из Св. Писания, не заботясь о том, чтобы согласовать перевод цитат с наличными славянскими переводами Св. Писания. <���…> Естественно, что варьирование текста по спискам затрагивало и библейские цитаты, их форма в разных рукописях одного текста подвержена большим колебаниям. <���…> Следовательно, всякое научное использование цитат в рукописях должно быть основано на изучении рукописной традиции данного текста, изолированный список не является надежным источником. <���…> Наблюдаемое положение вещей имеет, с другой стороны, то удобство для исследователя, что делает маловероятной такую ситуацию, когда бы переписчики и редакторы исправляли в рукописях форму цитат согласно какому-либо внешнему источнику» [493].
Вместе с тем, приведенное выше сравнение власти Узбека над Русью с властью императора Тита над Иерусалимом и Фоки Кап-падокийца над Константинополем дало В. А. Кучкину основание для еще одного важного вывода:
«…Пример с Фокой особенно красноречив. Сотник Фока удерживал императорский трон лишь в течение восьми лет, после чего власть снова перешла в руки…законных, с точки зрения средневековых хронистов, императоров. Тем самым тверской писатель давал понять, что и власть татарского хана является временной. Ее существование он ставил в прямую зависимость от…наших согрешений, под которыми понимал, как в этом можно было убедиться выше, моральные недостатки, а также, что особенно важно, феодальные распри, выступления младших князей против старших. Под религиозной оболочкой у автора…Повести о Михаиле Тверском обнаруживается весьма трезвая политическая мысль: борьба с татаро-монгольским игом может быть успешной только в том случае, если прекратятся усобицы на Руси.
Таким образом, в тверском памятнике первой четверти XIV в. впервые в русской литературе была выдвинута антиордынская политическая программа, которая оказала заметное влияние на формирование патриотических освободительных идей в сочинениях русских авторов последующего времени» [494].
В свою очередь, В. Н. Рудаков обратил внимание на то, что косвенно та же цитата свидетельствует о тождестве, в глазах тверского книжника, Руси с Иерусалимом и Царьградом:
«…В целом, соглашаясь с оценкой, данной В. А. Кучкиным, следует уточнить, что осознание власти ордынских ханов как временного явления вытекало не только из надежд книжника на возможное исправление соотечественников от…грехов. Более важным обстоятельством для него, судя по всему, являлось осознание статуса самой Руси . Неслучайно, по-видимому, книжник ставит Русь в один ряд с Иерусалимом и Константинополем. Возможность избавления от ига, по мысли автора…Повести, была связана с той ролью, которую Русь должна была играть в качестве страны, на которую через обряд крещения снизошла…благодать Божия» [495].
При этом, как вполне справедливо подчеркивает В. Н. Рудаков, нельзя переоценивать масштаб и глубину антиордынских настроений книжника. Пока речь идет лишь о характеристиках отдельных представителей ордынской власти. К тому же, акцент явно переносится на осуждение именно Кавгадыя: недаром автор Повести неоднократно подчеркивает, что тот действует без царева повеления(даже вкладывает такое признание в уста самого Кавгадыя) либо ждет, когда хан уйдет на ловы.
Читать дальше