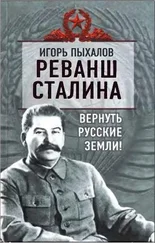В 1305 г., после кончины галицкого митрополита и митрополита владимирского Максима, константинопольская патриархия получила возможность объединить обе русские митрополии. Претендентами на единый престол митрополита всея Руси оказались ставленники Михаила Тверского (Геронтий) и Юрия Львовича Галицкого (Петр). По отношению к последнему тверские иерархи заняли открыто враждебную позицию, обвиняя Петра в симонии [468]и освящении браков между родственниками в четвертом и пятом колене. Тем не менее, Петр занял митрополичий престол. Несмотря на то, что тверской князь уклонялся от открытой конфронтации с новым митрополитом, Тверь навсегда утратила возможность стать духовным центром Руси:
«…Житие Петра, единственный источник, освещающий это важное событие (что само по себе весьма знаменательно), избегает какой-либо критики в адрес Михаила Ярославича, сообщая, что великий князь во время переяславской встречи был в Орде… <���…> [Однако] великий князь не оставался непричастен к выпадам против Петра. Нельзя сказать с уверенностью, когда и каким образом он вмешался в дело. Во всяком случае, Михаил не откликнулся на дерзкое предложение лично выступить против митрополита, сформулированное в кругах тверского клира, возможно он даже приказал прекратить нападки на Петра. Все же отношения между великим князем и митрополитом осложнились на столь длительный срок, что Тверь понесла от этого немалый ущерб. Хотя источниками доказывается всего один случай промосковских действий Петра, имеющий форму вмешательства в политические дела, значение этой симпатии к Москве на самом деле должно было быть гораздо большим. Наверняка не случайно летописи, находящиеся под сильным тверским влиянием, обходят молчанием смерть митрополита 21 декабря 1326 г. В Москве же, где был похоронен Петр, вскоре началось его почитание как святого» [469].
Победительницей в конфликте стала Москва, где Петр был похоронен в недостроенном Успенском соборе в 1327 г. Правда, остается, так сказать, моральный фактор, характеризующий действия московского князя не с лучшей стороны. Однако он легко снимается путем рассуждений логичных, хотя и не подкрепленных в достаточной степени источниками:
«Можно полагать, что нападки на митрополита Петра были вызваны не только политическими причинами, но и его действиями по укреплению внутрицерковной дисциплины. Святитель был единомышленником константинопольского патриарха Афанасия I, известного своей непримиримой борьбой со всякого рода нарушениями церковных и монастырских уставов. Патриарх держал себя весьма независимо по отношению к светской власти, не останавливаясь и перед применением такой сильной меры воздействия, как отлучение от церкви. Следуя примеру своего патрона, Петр неизбежно должен был нажить себе множество влиятельных врагов на Руси. Отсюда и то небывалое ожесточение, которым отмечены были дискуссии на переяславском соборе 1310 г.» [470].
Однако у этого события была и еще одна сторона. Послание константинопольского патриарха Нифонта с обличениями Петра
«…Богом прославленому и благочестиврму сынови духовному нашего смирения Михаилу, великому князю всея Руси » [471]
Такая титулатура, совпадавшая с титулом митрополита, фактически приравнивала тверского князя к положению византийского императора и предоставляла ему тем самым право надзора над церковью! По мнению М. Дьяконова, такое обращение патриарха к тверскому князю учитывало титул, принятый самим Михаилом. Из этого исследователь сделал вывод, что Михаил возвысил свои политические притязания до титула, равного титулу митрополита, как это позднее сделают великие князья московские [472].
Вместе с тем, такой титул мог вполне рассматриваться как претензия на объединение русских земель под властью Твери. Это тем более вероятно, что не только грек Максим Плануда именует Михаила царем росов, но и русский монах Акиндин адресует свое послание, осуждающее Петра,
«…Богом съхраненому и благочестивому, и благочестия держателю, великому князю Михаилу и честному самодержьцю рускаго настолования » [473]
Согласно широко распространенному мнению, все русские княжества на протяжении XII–XIII вв. жаждали объединения. Однако, по вполне основательному мнению Э. Клюга, даже намек на
«…потенциальные жертвы…собирания русских земель от Твери к Москве; последняя же была в состоянии сопротивляться Твери, опираясь на церковь, которую тверичи необдуманно настроили против себя в результате нападок на митрополита Петра.
Читать дальше