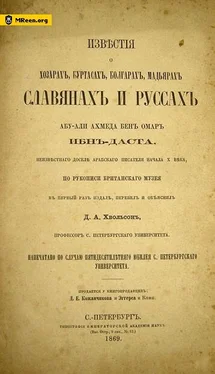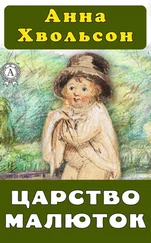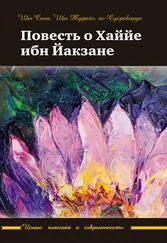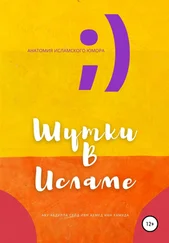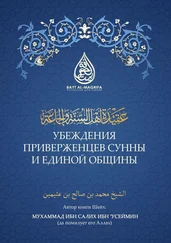При этом случае я позволю себе обратить внимание читателей еще на один предмет, который, кажется, опущен из виду историками философами: характеристические черты, резко выдающаяся у одного народа, обыкновенно встречаются и у остальных народов, принадлежащих к одной с ним, расе, иногда в высшей, иногда в низшей мере. Это почитание мужей меча, впрочем, составляет резкую отличительную черту Индоевропейцев от Семитов вообще. Тем, что я сказал сейчас о народе Моисеевом, могут хвалиться и другие семитические народы, хотя и в гораздо меньшей степени. Самое дикое арабское племя считает великим счастьем появление среди его поэта; в таком случае от всех соседних племен являются посольства, чтобы приветствовать племя, осчастливленное новым поэтом. Большая часть государственных переворотов у Семитов производились не героями меча, а мужами духа, пророками, благочестивыми или святыми, знаменем которых был не меч, а идея. Притязания различных претендентов во время калифата основывались на близком или дальнем родстве с пророком или его сподвижниками при основании и распространение новой религии. По упадке Багдадского калифата, в пределах его образовалось несколько династий. В восточных странах, как, например, в Хорасане, Ховарезме и т. д., где жили большей частью индоевропейские народы, основателями этих новых династий были храбрые наместники и полководцы; на западе же, где жили преимущественно Арабы, сначала, до покорения Арабов тюркскими племенами, основателями новых династий были преимущественно благочестивые, святые, представители новых идей, как например, основатели династий Алидов в Египте и Альмохадов в Африке и Испании. Даже в наше время знаменитейшим героем Арабов был благочестивый ученый, сын святого; я разумею Абдэлкадера.
Прошу не думать, что я говорю «pro domo» и желаю унижать индоевропейскую семью, противоположно Ренану. Напротив того, я убежден, что индоевропейская семья оказала человечеству, по крайней мере, столько же услуг, сколько и семитическая. Тем не менее сказанное выше о характере индоевропейских народов несомненно и останется таковым; дай только Бог, чтоб оно скорее перестало быть живой действительностью.
Факты истории составляют только материал для исторической науки; настоящую историческую науку образуют философские заключения, выводимые из материалов, решение вопросов: отчего происходили эти факты, в какой связи они находятся между собою, какой общий принцип служил им основанием, хотя необходимый последствия они имеют? Всякий, понимающий историческую науку, всякий, кто понимает, что в истории как в природе, действуют вечные неизменимые законы, пусть стремится к разрешению этих вопросов, где, как и на сколько он может. Этим я извиняюсь в отступлении от своего предмета.
§ 4.
97 . Ср. предпоследнее примечание, стр. 152 и след.
98 . Пользуемся настоящим случаем для хронологического сопоставления и критического объяснения известных нам свидетельств мусульман о торговле Руссов и других приволжских народов.
Древнейшие дошедшие до нас известия об этом предмете принадлежите географу Ибн-Хордадбеху, писателю второй половины IX века. Показание его, правда, известно, ибо давно было обнародовано Шпренгером ( Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, 4844, ч. XII, стр. 521 и след.) а потом Рено ( Geogr. d'Aboulfeda, ч. I, Introd., стр. LIX) и подробно разобрано проф. И. И. Срезневским ( Вестник Императорского Русского Географического Общества, 1854 г., I, стр.49 — 68.); но я сообщаю его здесь для полноты. Ибн-Хордадбех сперва говорит об еврейских купцах, поддерживавших замечательный торговый сношений с Индией и Китаем и вывозивших между прочим бобровые меха на восток, и потом продолжает: «Что же касается до русских купцов, принадлежащих к Славянам, то они из отдаленнейших стран славянских привозят бобровые меха, меха черных лисиц и мечи к берегу Румского моря ( то есть, к Черному морю, где оно касается Византийского государства, и к морю около Константинополя), где они дают десятую часть Византийскому императору. Иногда они на кораблях ходят по реке Славян (то есть, Волге) и проезжают по заливу хозарской столицы (Итиля), где они платят десятую часть царю страны. Оттуда отправляются они в Каспийское море и выходят на берег, где им угодно.... Иногда они возят свой товар на верблюдах до Багдада» ( См. Journ. Asiat. 1865, ч. V, стр. 115 и след. и 512 и след. Ср. Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, там же, стр. 524 и след., где Шпренгер сообщает еще подобное известие из малоизвестной рукописи Британского музея, под заглавием: «Китаб-эль-Болдан». Показание это, по-видимому, взято из Ибн-Хордадбеха и только запутанно передано автором. Кстати замечу, что встречавшийся у Шпренгера Самкуш-эль-Йахуд не значит: Еврей Самкуш (ср. Срезнеского, там же, стр. 54 и след.), а Самкуш Евреев, под которым разумеется, без сомнения, местность, обитаемая преимущественно Евреями. Ср. Калет эль-Яхуд = Чуфут Калэ в Крыму. — О торговых сношениях древних Руссов с Константинополем, ср. Погодина, Исслед. III, стр. 256 и след.).
Читать дальше