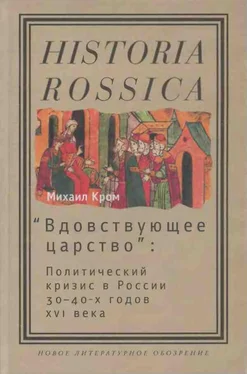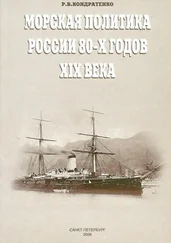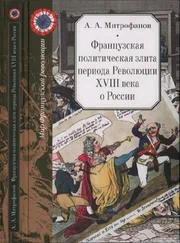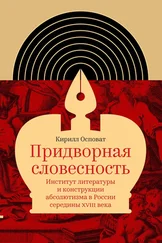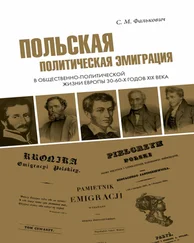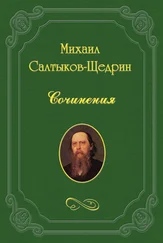Та же характеристика интересующей нас эпохи и почти в тех же выражениях, что и в царском послании, содержалась в другом памятнике первой половины 1560-х гг. — Степенной книге. Здесь в особой главе, названной «О преставлении великия княгини Елены и о крамолах болярских и о митрополитех», обличались «междоусобные крамолы» и «несытное мьздоимьство» бояр, «улучивших время себе» при «младом» государе [20] ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 21. 2-я половина. С. 634.
.
Подробный разбор летописных текстов 1560–1570-х гг., освещавших события эпохи «боярского правления», не входит в мою задачу. Важно только подчеркнуть, что, как установлено исследователями, основным источником повествования о первой половине царствования Грозного во всех памятниках предопричного, опричного и послеопричного времени — Львовской летописи, Степенной книге, Лицевом своде (Синодальной летописи и Царственной книге) — послужил Летописец начала царства поздней редакции, отразившейся в списках, продолжающих Никоновскую летопись [21] См.: Клосс Б. М . Никоновский свод. С. 201, 225, 228; Морозов В. В . Об источниках Царственной книги (Летописец начала царства) // Летописи и хроники. 1984 г. М., 1984. С. 75–87; Шмидт С. О . Российское государство в середине XVI столетия. М., 1984. С. 224–232; Лурье Я . С. Летопись Львовская // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 44–45; Клосс Б. М . Царственная книга // Там же. С. 506–508; Покровский Н. Н . Афанасий, митрополит // Там же. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 73–79. В недавно изданной монографии В. В. Морозов называет в качестве непосредственного источника Лицевого свода реконструируемый им Свод 1560 г., который, однако, с 1541 г. обнаруживает сходство с Летописцем начала царства, см.: Морозов В. В . Лицевой свод в контексте отечественного летописания XVI века. М., 2005. С. 93. О Степенной книге см.: Сиренов А. В . Степенная книга: история текста. М., 2007; Усачев А . С. Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария. М.; СПб., 2009.
. При этом фактический материал мог подвергаться сокращению (как в Степенной книге), дополняться известиями других летописей или даже (как в знаменитых приписках к Лицевому своду) ранее не известными подробностями, но концептуальная основа оставалась прежней: это была все та же, созданная во второй половине 1550-х гг., трактовка событий малолетства Ивана IV, подчеркивавшая при каждом удобном случае эгоизм и своеволие бояр-правителей.
К концу царствования Ивана Грозного угодная ему версия истории «боярского правления» была «растиражирована» во множестве текстов. Обвинения, брошенные Иваном IV и его помощниками по летописному делу деятелям 1530–1540-х гг., положили начало историографической традиции, влияние которой не преодолено до сих пор.
* * *
Когда началась научная разработка истории России XVI в., в ее основе оказались официальные летописные памятники грозненского времени: Никоновская и Львовская летописи, Царственная и Степенная книги, опубликованные впервые в эпоху Екатерины II. К тому же «семейству» принадлежал и Архивский летописец (свод 1560 г.), использованный Н. М. Карамзиным в его «Истории» [22] См. список летописей, использованных Карамзиным: Карамзин Н. М . История государства Российского: В 12 т. М., 1989. Т. 1. С. 25–26. Ср.: Клосс Б. М . Никоновский свод. С. 200.
. Если учесть, что шахматовская «революция» в летописеведении произошла лишь на рубеже XIX–XX вв., а систематическое освоение актового материала эпохи Ивана Грозного началось только в середине XX столетия, то становится понятно, что историкам XVIII–XIX вв. трудно было освободиться от влияния схемы, навязываемой официальным летописанием 50–70-х гг. XVI в.
Неудивительно, что оценки, данные «боярскому правлению» историографами конца XVIII — начала XIX в., по существу, мало чем отличались от приведенных выше летописных характеристик: бедствия, будто бы пережитые страной в 30–40-х гг. XVI в., объяснялись моральными качествами тогдашних правителей. Общим оставался и монархический взгляд на историю, вера в спасительность единовластия. «Тогда как внутри России, пользуяся младенчеством великого князя, мирские и духовные российские сановники старалися каждый честолюбие свое удовольствовать, — сообщал М. М. Щербатов, — разливающаяся повсюду слабость такового правления и происходящее от того неустройство ободряло врагов российских…» [23] Щербатов М. М . История Российская от древнейших времен. СПб., 1786. Т. V, ч. 1. С. 169.
Описав дворцовые перевороты конца 1530-х гг., Н. М. Карамзин задавал риторический вопрос: «Среди таких волнений и беспокойств, производимых личным властолюбием бояр, правительство могло ли иметь надлежащую твердость, единство, неусыпность для внутреннего благоустройства и внешней безопасности?» Повторяя вслед за Грозным инвективы против Шуйских, историк противопоставлял их владычеству «благословенное господствование князя Бельского» [24] Карамзин Н. М . История государства Российского. Изд. 5-е. Кн. II. СПб., 1842. Т. VIII. Стб. 33 и след.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу