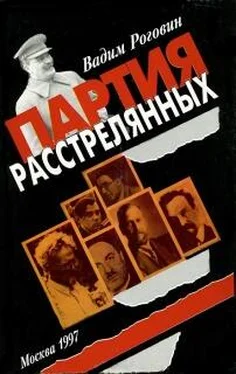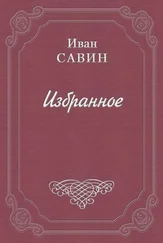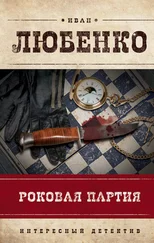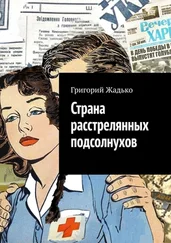Эти обвинения, подтверждённые подсудимыми московских процессов, создавали впечатление: если люди, занимавшие весьма высокие посты, признают свою причастность к таким страшным преступлениям (а ведь и до этих признаний они многократно каялись в своей «объективно преступной» оппозиционной деятельности), то избавление страны от множества расплодившихся террористов и вредителей, проникших во все поры партийно-государственного механизма, является безусловным благом. Сетовать можно лишь по поводу того, что, «когда лес рубят — щепки летят».
Представляющаяся сегодня слепой и странной доверчивость людей, не замечавших многочисленных неувязок московских процессов и веривших в шитые белыми нитками показания подсудимых, во многом объяснялась действием всепроникающей пропаганды в условиях предельной суженности информационного пространства. Ведь в те годы не существовало вещавшего на СССР зарубежного радио, только после второй мировой войны ставшего для миллионов советских людей каналом и источником контринформации, разрушающей сталинистские мифы и фальсификации. Выступления Троцкого, способные радикально переместить знаки в восприятии большого террора, практически не прорывались через железный занавес, отделявший Советский Союз от всего остального мира.
История XX века показала могущественную власть над умами, которую способен обретать коллективный миф, тиражируемый средствами массовой информации. И дело здесь не в отсталости Советского Союза или в каких-то особых свойствах «русской души». Не менее властными оказались в те же годы изуверские мифы о превосходстве «высшей расы» для немецкого народа, прошедшего школу буржуазной демократии. А разве уже в наши дни не обрели власть над умами многих советских людей злобные мифы об изначальной порочности большевистского «утопического эксперимента» или о мировом «масонско-сионистском заговоре»? Разве верхушечная интеллигенция, кичащаяся своим духовным превосходством над народными массами, не поверила в риторику Горбачёва о «судьбоносных преобразованиях» или в демократические устремления Ельцина и благодетельность для страны «рыночных реформ»?
Главные мифы 1937 года — о величии Сталина и о злодейских троцкистских замыслах, будучи неразрывно связанными между собой, на протяжении многих предшествующих лет настойчиво внедрялись в массовое сознание. Их утверждение могло происходить только через реки крови. Ведь культ Сталина не был спонтанным выражением народных чувств. Он разительно противоречил массовым настроениям первых лет революции, ярко переданным Маяковским в поэме «Владимир Ильич Ленин»:
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберёг,
я бы
стал бы
в перекоре шествий
поклонениям
и толпам поперёк.
Я б
нашёл
слова
проклятья громоустого
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства
по Кремлю бы
бомбами
метал:
долой! [630] С 1937 по 1953 год вторая, «террористическая» строфа была выброшена из всех изданий произведений Маяковского.
, [631] Маяковский В. В. Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1934. С. 19.
Чтобы насадить сталинский культ — эту разновидность светской религии — тоталитарный режим должен был вытравить такие настроения, уничтожить тех, кто был способен встать «поклонениям и толпам поперек». К таким людям относились прежде всего троцкисты, чьё влияние распространялось на множество советских людей. И если герой романа А. Рыбакова «Страх» двадцатилетний Саша Панкратов разобрался в подлинной сущности московских процессов, то лишь потому, что в сибирской ссылке он общался с троцкистами, раскрывшими ему на многое глаза. Во время чтения судебных отчётов Саша вспоминал о несломленной оппозиционерке Звягуро, которая «всё понимала. А он спорил с ней, когда она говорила, что Сталин хуже уголовника, кого угодно убьёт, если понадобится. Оправдываются её предсказания» [632] Рыбаков A. Страх. Кн. 2. М., 1991. С. 235.
.
В известном смысле Саше было легче понять правду, чем более взрослым членам партии, которых правящая фракция с 1923 года проводила через длительную череду «антитроцкистских» кампаний. Даже такой искушённый в политике человек, как Раскольников, нашедший в себе силы порвать со Сталиным, в своих зарубежных выступлениях оговаривался, что далёк от троцкизма. Между тем, подобно мольеровскому герою, не ведавшему, что он говорит прозой, он по сути повторял «троцкистскую» критику сталинизма.
Читать дальше