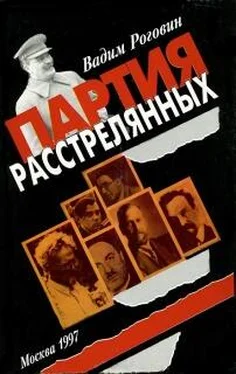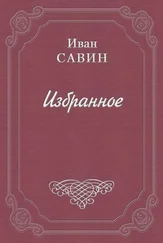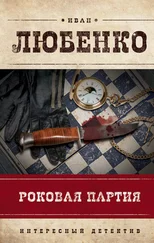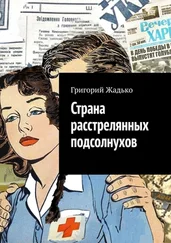Размышляя над тем, Ежов ли разжигает подозрительность Сталина или же, напротив, Сталин «настойчиво и расчётливо подогревает усердие Ежова», Кольцов рассказал эпизод, который объяснил ему многое в механике великой чистки. Зайдя однажды к Мехлису, он застал его за чтением толстой тетради, в которой содержались показания главного редактора «Известий» Таля. Мехлис сказал, что не имеет права познакомить Кольцова с этими показаниями, но может показать его резолюцию: «Товарищам Ежову и Мехлису. Прочесть совместно и арестовать всех упомянутых здесь мерзавцев». «Понимаешь? — взволнованно говорил Кольцов.— Люди, о которых идёт речь, ещё на свободе, они работают, может быть, печатаются в газетах, ходят с жёнами в гости и в театры, собираются в отпуск куда-нибудь на юг. И не подозревают, что они уже „мерзавцы“, что они уже осуждены и, по сути дела, уничтожены одним росчерком этого красного карандаша. Ежову остаются чисто технические детали — оформить „дела“ и выписать ордера на арест».
«Я слушал брата,— вспоминает Б. Ефимов,— и сердце сжималось зловещей тревогой. Я не мог отказаться от мысли, что и его судьба, может быть, решена вот так же… красным карандашом на чьих-нибудь вынужденных или выдуманных показаниях. Я чувствовал, что он думает о том же, но вслух высказать эти мысли мы не решались, хотя читали их друг у друга в глазах» [623] Там же. С. 104.
.
Кольцов и Ефимов принадлежали к тому кругу партийной и околопартийной интеллигенции, который находился под гнётом постоянного напряжения и неотвязного страха за собственную судьбу и судьбу своих близких. Атмосфера, в которой жили эти люди, с пронзительной достоверностью передана в воспоминаниях Ефимова: «Как описать состояние тысяч и тысяч людей, не знающих за собой никакой вины, но каждую (каждую!) ночь с замиранием сердца прислушивавшихся, не раздастся ли в дверь роковой звонок, облегченно вздыхавших и забывавшихся тяжёлым сном где-то под утро, для того чтобы в течение дня с ужасом думать о предстоящей ночи?.. Эти люди страстно хотели бы что-то у кого-то узнать, спросить, что-то кому-то объяснить, в чём-то оправдаться, что-то опровергнуть. Но сделать этого они не могут, потому что никто никаких вопросов им не задаёт, ни в какие объяснения не вступает, никаких претензий не высказывает, никаких обвинений не предъявляет. Человек чувствует себя в каком-то жутком бредовом вакууме, но должен при этом делать вид, что никаких оснований для беспокойства у него нет, должен выглядеть абсолютно спокойным и жизнерадостным, должен сохранять полную работоспособность, выполнять, как обычно, свои обязанности» [624] Там же. С. 100.
.
После каждого ареста своего родственника, сослуживца или близкого товарища человек лихорадочно вспоминал, не произнёс ли он когда-то в приватном разговоре с ним что-нибудь «крамольное». Ведь даже из газетных сообщений было ясно, что мало-мальски критических высказываний в адрес Сталина или каких-то аспектов его политики достаточно для того, чтобы быть обвинённым по меньшей мере в «контрреволюционной агитации».
Разумеется, было немало людей, понимавших произвольность и фантастичность «признаний», о которых неустанно вещали печать и радио. Как рассказывал И. Райсс, «над „признаниями“ в Москве откровенно издеваются. Успехом пользуются рассказы вроде того, что Алексей Толстой после ареста и допросов признал, что написал „Гамлета“, и т. д.» [625] Бюллетень оппозиции. 1937. № 60—61. С. 21.
Но, пожалуй, не меньше насчитывалось тех, кто верил не только в неведение Сталина относительно провокаций и зверств, творящихся в тюремных застенках, но и в широко пропагандируемую формулу «НКВД не ошибается». Такие люди искренне отрекались даже от своих ближайших друзей или родных, как только узнавали об их аресте. К. Икрамов вспоминал, как его мать сказала близкой подруге, узнав об аресте её мужа: «Если его взяли, значит — он сволочь». Услышав эти слова, та упала в обморок — не из-за потрясения их жестокостью, а потому что вспомнила, как совсем недавно её муж отреагировал на арест своего товарища буквально теми же словами [626] Знамя. 1989. № 5. С. 55.
.
Конечно, далеко не все коммунисты руководствовались только соображениями собственного выживания, жили во власти страусовой психологии, вольного или невольного стремления не обременять своё сознание и совесть размышлениями о смысле происходящего. Намного более трагическим было мироощущение тех, кто сознавал преступную роль Сталина и в то же время остро ощущал свою беспомощность, невозможность действенно противостоять валу репрессий. Об этом психологически убедительно рассказывается в повести Г. Бакланова «Июль 41 года». Здесь описывается, как в конце лета 1937 года, когда «события приняли громадный размах», к полковнику Щербатову пришёл его друг и дальний родственник Емельянов, который был настолько «в больших чинах», что Щербатов «никогда о своих родственных связях не напоминал, сам к нему почти не ездил, разве что в дни рождений, когда неудобно было не ехать» (этот штрих выразительно говорит об установившейся к тому времени чёткой иерархии, разделявшей даже «ответственных коммунистов» на невидимые страты). Емельянов предстаёт в повести как подлинно народный характер, человек, выдвинутый на первые роли революцией и беззаветно преданный её делу. «Могучего сложения, рослый, с трезвым, ясным умом, он был из тех людей, которые во множестве всегда есть в народе, но становятся видны только в крутые, переломные моменты истории. В такие поворотные моменты они приходят хозяйски умелые, уверенные, знающие, что им делать, не спрашивая, сами подставляют широкое плечо под тот угол, где тяжелей».
Читать дальше